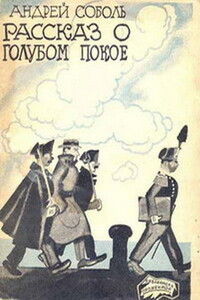Глава первая.
Глухое брожение
О том, что было до сирокко, до того, как сорвался он с гор, — рассказывать нечего.
Всё начинается с сирокко, всё начинается с той минуты, как потемнел Везувий — нахлобучил он по уши мохнатую шапку сизо-облачную, в последний раз дохнул дымной струей, точно закурил напоследок; одна-две затяжки — и нет Везувия. А Капри давно уже потонул в бледно-синем тумане.
И пошёл гулять сирокко вдоль морского берега.
В Позитано он сковырнул две-три крыши, и кувырком понеслись к морю плиты да плиточки, в Амальфи затанцевали-запрыгали оловянные рыбы в руках святого Андрея — бедный рыболов еле удерживал их, как его собрат, святой Антоний, на площади в Сорренто с трудом тяжким и терпением, воистину святым, защищал спиной своей кронштейны электрических проводов.
Едва-едва не слетел венчик с бронзовых кудрей святого покровителя Сорренто, но зато кронштейны, ввинченные в спину святого, уцелели, и потому не погасли бесчисленные лампочки в соррентских отелях и не остались короткобрючные иностранцы и иностранки в клетчатых юбках без света. И потому по вечерам могли шуршать в салонах всех рангов английские иллюстрированные журналы, американские спортивные листки и немецкие еженедельники, и потому могли все мисс, все фрекен и все фрейлейн продолжать свои вязания, вышивки.
Всё начинается с сирокко.
По утрам он вёл себя ещё довольно сносно, — только слегка резвился, как молодой ослик без поклажи; по утрам он лишь слегка щекотал берлинские, нью-йоркские, стокгольмские и прочие нервы, до первого завтрака пока что только намекал.
Но к четырём часам ослик с катастрофической быстротой немедленно превращался в разъярённого буйвола, к чёрту, к дьяволу летели такие никчёмные, ненужные и смехотворные вещи, как узда, вожжи, — и тысячи, миллионы, миллиарды ослиных криков потрясали небеса. А знаете ли вы, как кричит один только неаполитанский осёл?
Крики сплетались, свивались и жгутом, толстым и крепким, били наотмашь по бедным человеческим головам. Человек извивался, человек захлёбывался, как идущий ко дну неудачный пловец, человек в бешенстве наглухо запирал окна, ставни, двери, законопачивал себя подушками, одеялами, но сирокко походя сводил всё насмарку, и все преграды и все препоны обращал в ничто — в пустяк, в ерунду — и давил сверху, и надавливал с боков, и выползал из-под ног.
А с пансионом «Конкордия», стоявшим на отлёте, на горке, по пути из Амальфи в Сорренто, сирокко поступил ещё проще: медным котлом прикрыл весь дом, всю голубую «Конкордию» со всеми её пристройками, вышками, надстройками и мезонинами, прикрыл плотно, без единой щелочки, от флагштока до последней куртины и по медному котлу забарабанил молотками, — тысячерукий заклёпщик.
Вторую неделю выл сирокко — неутолённо, неудержимо беспощадно.
Всё начинается с сирокко.
И первой запротестовала гордость пансиона и сладостное утешение хозяина сеньора Розетти румынская княгиня m-me Стехениз-Мавропомеску, чью фамилию итальянским губам никак не произнести, но от каковой на таких же губах круглоголового, круглолицего и круглоногого Пипо Розетти играет и радуется постоянная сахарная улыбка. О, нет, не приторная, не нарочитая сладость, а искренняя, от души идущая, от самого нутра (тем паче, что княгиня медлительна в темпах уплаты за пансион), выступающая из всех пор, как выступает пот после восхождения на манящую вершину.
И вершина пансиона, — предел пансиона, завершение пансиона, — довольно короткими, но выхоленными пальцами зажала уши и простонала:
— Я больше не могу!
Впервые за все месяцы княгиня отказалась от сладкого, несчастный фоксик «Mon coeur» получил пять полновесных шлепков, сдобные княжеские ручки в разноцветных многогранных кольцах чувствительно отразились на бедной фоксиной шкурке.
Микеле, восемнадцатилетний курчавый синеглазый пройдоха, весельчак, тончайший мастер по части разбавления вина водой, упорно, как стебель к солнцу из расщелины стены, вылезающий из своей тугой белой курточки, в которой тесно ему и тошно, замер перед княгиней с отвергнутым блюдом взбитых сливок, а потом опрометью кинулся в коридорчик, на ходу срывая нитяные перчатки, сунул лохматую голову в четырёхугольный разрез деревянного простенка между коридорчиком и кухней и прохрипел умирающим голосом:
— Принчипесса отказалась от сладкого.
Точно вышвырнутый подземным толчком, выскочил из кухонного кратера Пипо Розетти, и помчался он по лестнице за княгиней, — лаял фоксик, тут же на глазах княгини таял от горя Пипо, потрясал барометром, уверял всеми святыми, что завтра сирокко перестанет, умолял не убивать его, взять хотя бы одну ложечку сливок; и в сочувствии и в траурном экстазе поникли головами все пипины домочадцы: младшие в старшие помощники, водогреи, блюдомои, уборщицы.
А вслед за княгиней отказались от сладкого и мадам Бадан, и фрау Алиса Пресслер, и супруги Рисслер, причём сам Рисслер, вставая, резко отодвинул столик, опрокинул графин с водой. И тогда только впервые заметила фрау Герта Рисслер, что у мужа плоские зубы, и что умеют они препротивно скрипеть; и точно в предчувствии будущей какой-то огромной и неотвратимой беды втянула маленькая фрау Герта маленькую голову в худенькие плечи, и робко засеменила она за мужем, — маленькая Герта, Frau Blumenkohl, как прозвали её некогда соседки по Cantstrasse. И мелкокудрявая головка, светленькая — завитки цветной капусты, — бледно обрисовавшись под матовыми колпаками люстры, понуро исчезла в провале двери.