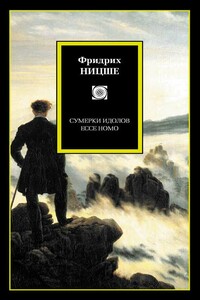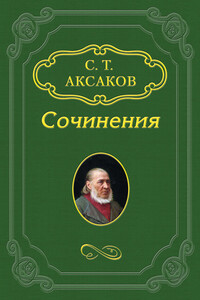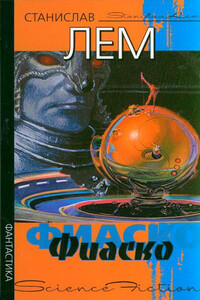Если провести опрос среди граждан России или бывшего СССР с просьбой назвать самого известного польского писателя, в ответ чаще всего можно будет услышать: Станислав Лем. И это неудивительно: Лем у нас чрезвычайно популярен и любим. Русскоязычный читатель вместе с читателями — без преувеличения — всего мира с грустью встретил два с половиной года назад известие о его кончине. В России издавались и продолжают переиздаваться большими тиражами многотомные собрания сочинений Лема. И вот теперь к ним прибавился еще один том, вышедший в Польше уже после смерти автора. В нем собраны фельетоны, которые Станислав Лем публиковал в польском еженедельнике «Тыгодник повшехны» почти до последних своих дней. Они свидетельствуют о живом интересе писателя к событиям, происходящим в разных уголках земного шара, о его мудрости и прозорливости. Слово Лема остается весомым и метким, и, не сомневаюсь, мы еще не раз будем возвращаться к этой небольшой книге, как и вообще ко всему, им написанному, а реальность — тоже еще не раз — подтвердит его пророчества.
В представленном читателю сборнике большинство переводов выполнены участниками семинара переводчиков «Трансатлантик» при Польском культурном центре. За семь с лишним лет существования семинара совместными усилиями подготовлены к печати (и впоследствии опубликованы разными издательствами) сборники рассказов современных польских авторов, среди которых и хорошо известные нашему читателю имена (Корнель Филипович, Ольга Токарчук, Тадеуш Ружевич), и менее известные (Юзеф Хен, Ежи Сосновский). Лема все участники семинара переводили впервые — работа была нелегкой, она требовала не только неизбежных при переложении иноязычного текста усилий, но и знания широкого круга проблем, затронутых автором, и составления солидного справочного аппарата — и тем большее приносила удовлетворение. Памяти нашего великого современника, выдающегося писателя и философа Станислава Лема посвящается этот скромный труд.
Ксения Старосельская
Недавно я перечитал «Историю двадцатилетия (1918–1939)» Павла Зарембы, изданную Гедройцем[1]>{2} в 1981 году. По времени это случайно совпало с поездкой Леппера[2]в Россию. Его уклончивые псевдообъяснения, будто он не знал, к кому едет, с кем едет, кто рядом с ним сидит и что все это значит, напомнили мне эпизод времен II Речи Посполитой, период между Рапалло и Локарно[3]. Когда в 1922 году Германия и Советская Россия подписали договор в Рапалло, главой государства был еще Пилсудский[4], а министром иностранных дел — Габриель Нарутович[5], который вскоре стал президентом, а затем погиб от руки Невядомского[6]. В глазах Пилсудского налаживание Германией торговых, а затем и военных контактов с Россией представляло, как он выразился в обществе своих генералов, «смертельную угрозу для нашей независимости». Угроза эта еще больше возросла после конференции в Локарно в 1925 году, когда были получены гарантии нерушимости границ Германии с Францией и Бельгией, но не с Польшей и Чехословакией.
Едва заметный след военного сотрудничества Германии и Советов мне довелось увидеть (так разглядываешь слоновью ногу через лупу) во Львове осенью 1941 года, когда я работал механиком в немецких мастерских, и нас возили на грузовиках в те места, где прежде был Восточный рынок, а тогда находился так называемый Beutepark der Luftwaffe, то есть склад трофеев немецкой авиации. В частности, там стояли советские военные самолеты и были собраны детали к ним. Поскольку я любил что-нибудь мастерить, то выкрутил несколько шарикоподшипников, на которых с изумлением обнаружил надпись «Made in Germany»…
Факт немецко-российского сотрудничества, возможно, объясняет поведение маршала Пилсудского. Когда после роспуска парламента в 1930 году он отправил значительную часть бывших депутатов сейма от оппозиции в Брест>{3}, эти непарламентские и неконституционные меры вызвали не только возмущение, но и изумление. Можно, однако, предполагать, что становящиеся все более жесткими действия и высказывания маршала по адресу сейма были реакцией на ощущение растущей угрозы извне и желанием наложить своего рода сурдину, то есть глушитель на оппозицию, чтобы успокоить страну.
Очередные кабинеты министров в тридцатые годы пробовали как-то обезопасить страну и сколотить широкий международный союз, который бы нас спас. Меня всегда удивляло равнодушие, которое тогда проявляло польское государство к Чехословакии, и vice versa>{4}. Две славянские страны, общий противник, но ни Масарик[7], ни Бенеш[8] не замечали нарастающей немецкой угрозы, а поляки не хотели сотрудничать с чехами.
Франция, сильно ослабленная в Первую мировую войну (страна потеряла до пяти процентов населения в позиционных сражениях!), была исполнена пацифистского духа и упорно отвергала все польские предложения о превентивной акции по отношению к Германии. Когда гитлеровская Германия заняла демилитаризованную согласно Версальскому трактату>{5} Рейнскую область, поляки пытались склонить французов к совместному выступлению в рамках польско-французского пакта, но и тогда встретили отказ. Межвоенное двадцатилетие было временем заключения бесчисленных пактов и уменьшения влияния Лиги Наций, в то время как Сталин и Гитлер решили действовать согласно принципу pacta sunt delenda — пакты следует разрывать.