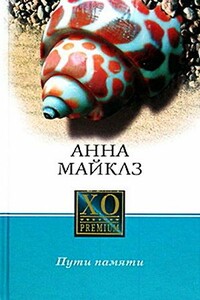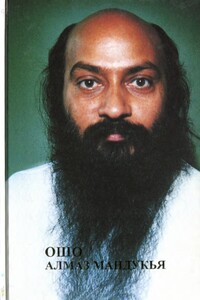Время – слепой поводырь.
Я, мальчик-водяной, внезапно вынырнул на поверхность хляби улиц затопленного города. Больше тысячи лет только рыбы проплывали над деревянными настилами тротуаров Бискупина. Дома с фасадами, обращенными к солнцу, были покрыты илистой гнилью речки Гасавки. Восхитительные сады росли в подводном безмолвии – лилии, камыш, водоросли с отталкивающим терпким запахом.
Никто не рождается единожды. Если повезет, возродишься вновь в чьих-то объятиях; если нет – воскреснешь, когда мозг твой объят угнездившимся в черепе ужасом.
Меня выкорчевали из топи болотной, как человека из Толунда или человека из Гробала,[1] как мальчика, которого чуть ли не с корнем выдернули посреди улицы Франца-Иосифа, когда ремонтировали дорогу; с шеи его свисали шесть сотен ракушек, голову покрывал шлем из грязи. Сливового цвета слизь стекала с его тела торфяным потом. Послед земли.
Я увидел мужчину, стоявшего на коленях на сочившейся влагой земле. Он копал. Мое внезапное появление привело его в замешательство. Он, должно быть, подумал, что я – одна из затерянных душ Бискупина или тот сказочный мальчик, который прорыл такую глубокую нору, что вылез из земли на другом конце света.
Бискупин усердно раскапывали почти десять лет. Из мягких коричневых торфяных пазух археологи трепетно и неустанно извлекали на свет Божий реликты каменного века и железного. Они сумели восстановить дубовую гать, некогда связывавшую Бискупин с большой землей, резные деревянные дома, смастеренные без единого гвоздя, крепостные валы и городские ворота с высокими башнями, С илистого дна озера подняли деревянные улицы, по которым двадцать пять веков тому назад ходили купцы и ремесленники. Потом пришли солдаты, они смотрели на прекрасно сохранившуюся глиняную утварь, вертели в руках стеклянные бусы, бронзовые и янтарные браслеты и со всего маху разбивали их об пол. Радостным маршем они продефилировали по чудесному деревянному городу, где некогда жила сотня семей. После этого солдаты засыпали Бискупин песком.
* * *
Моя сестра уже давно переросла все тайники, где раньше мы любили прятаться вместе. Белле было пятнадцать, и даже я замечал, какая она стала красавица – с густыми бровями и чудесными волосами, роскошными и пышными, мощной гривой цвета воронова крыла спадавшими ей на плечи и спину. «Произведение искусства», – говорила мама, расчесывая волосы сидевшей на стуле Беллы. А я был еще в том возрасте, когда можно исчезнуть за оклеенной обоями дверцей чулана, наискосок втиснув склоненную набок голову между удушливой штукатуркой и досками, в которые упираются ресницы.
С тех самых минут, проведенных в стене, мне стало казаться, что мертвые теряют все чувства, кроме слуха.
Внезапным ударом дверь распахнулась настежь. Сорванное с петель дерево затрещало льдом в оттепель, и раздались крики – вопли моего отца, каких я не слышал никогда. Потом настала тишина. Мама пришивала мне пуговицу к рубашке. Пуговицы она держала в щербатом блюдечке. Я услышал, как блюдечко стукнулось ободком об пол и волчком закружилось. Я услышал, как по полу мелкими белыми зубами разлетаются пуговицы.
Тьма заполонила меня, она текла от затылка к глазам, как будто проткнули мозг. Она ползла от живота к ногам. Я глотал ее, глотал, давился, а она все ползла и текла. Из стены пошел дым. Я выбрался из чулана и тупо смотрел, как разгорается пламя.
Мне хотелось к родителям, хотелось к ним прикоснуться. Но я не мог – надо было перешагивать через их кровь.
Душа покидает тело мгновенно, как будто еле дождалась свободы: мамино лицо было на себя не похоже. Тело отца перекорежило падением. Лишь очертания двух рук явственно различались в груде человеческой плоти.
Я бежал и падал, падал и бежал. Потом была река – такая холодная, как будто ножом резала.
Река была цвета черной тьмы внутри меня; только тонкая оболочка кожи держала меня на плаву.
С другого берега я видел, как тьма над городом становилась багряно-оранжевой: цвет плоти превращался в цвет духа. Они летели ввысь – мертвые проносились надо мной причудливыми ореолами, дуговыми извивами, душившими дыхание звезд. Деревья клонились под их весом. Я никогда не был один в ночном лесу, торчавшие отовсюду голые ветки были, как замерзшие змеи. Земля уходила из-под ног, и ноги меня не держали. Меня тянуло быть с ними, взлететь с ними ввысь, бесплотным духом взмыть над землей, словами, сошедшими с бумаги страницы. Я знаю, почему мы хороним наших мертвых и метим их могилы камнем – самым тяжелым и долговечным, что нам известно: потому что мертвые всюду, только не в земле. Я остался где был. Влип в землю, окоченев от холода. Я только об одном молил: если встать нет сил, пусть я просочусь, протеку, впитаюсь в лесную землю, как печать в воск.