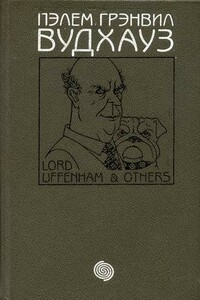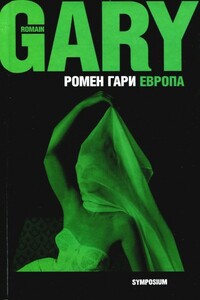Я знавал когда-то мальчика, имевшего все задатки выдающегося полководца. К несчастью, он был горбат. Я и сам был тогда мальчишкой и сопровождал его на смотры, парады и учения, повсюду, где бил барабан и дефилировали мундиры; не то, чтобы эти зрелища особенно меня привлекали, но я был привязан к своему товарищу и готов был терять время, лишь бы вместе с ним.
Этот горбун оживлялся при звуках дудок и барабанов, а когда за этим шумом следовала более выразительная музыка духовых инструментов, черты его, отражая сильное движение души, сияли воинственной гордостью. Если затем равнина оглашалась ружейной пальбой и пушечным громом, а полки, наступая друг на друга, изображали атаку, победу, отступление и все перипетии войны, мальчик, восхищенный этим зрелищем, кидался туда, где клубился дым, врывался в ряды стрелков, сопровождал орудия, бежал вслед за конницей, ежеминутно рискуя быть раздавленным марширующей колонной или быть избитым солдатами, которым он мешал. По окончании смотра, он шагал в ногу с головной частью батальона, не сводя глаз с командира, стремясь показать, что выполняет все его приказы и участвует во всех маневрах. Мальчик привлекал внимание зрителей, над ним потешались, но чувства его были слишком сильны, Чтобы он замечал насмешки, и он продолжал шагать, опьяненный патриотическим восторгом и жаждою славы. «Как только вырасту, – говорил он мне в часы наших вечерних прогулок вдвоем в окрестностях города – я стану военным. Видел ты, как командир скакал по равнине?… Вот бы командовать эскадроном! Ураганом налетать на неприятельские штыки и завоевывать славу! Не ждать смерти, а мчаться ей навстречу и нести ее врагам! Разбивать их, рассеивать и преследовать!… Мой род оружия, Луи, это кавалерия!»
Его восторг увлекал отчасти и меня и я мысленно тоже принимался разбивать и преследовать!… А он продолжал: «Да это еще что!… Вот враг бежит, оставляя на поле боя раненых и убитых… А я собираю моих драгун, запыленных, обагренных кровью, и мы вступаем в спасенный город… Толпы жителей стоят на городских стенах, на крышах домов… Мы приближаемся… Мы дефилируем… Раненый командир гарцует во главе своих храбрецов… Все взоры венчают его славою, все сердца летят ему навстречу!… Да, мой род оружия, Луи, это кавалерия!»
Я охотно слушал его речи, столько было в них сильного и страстного чувства. К тому же я привык видеть в этом мальчике прежде всего друга, а не горбуна, и великолепие нарисованных им картин не тускнело для меня, ибо мне не приходило в голову, что на боевом коне его жалкая фигурка была бы нелепа. Поэтому я слушал его жадно, не думая улыбаться. Подчиняясь власти, какую имеют над нами пылкие и сильные натуры, я мысленно становился солдатом моего генерала и, выполнив по его приказу самые сложные маневры, вместе с ним вступал в город, маршируя, то медленнее, то быстрее под звуки дудок и бой барабанов. О невинные годы детства! Чистые детские сердца, способные любить, невзирая на телесные уродства и не отравленные еще ядом насмешки!
Для меня склонности этого мальчика всегда были убедительным доказательством различия, существующего, как говорят, между двумя субстанциями, составляющими человека. Как! Уродливое и хилое тело… а в нем душа рыцаря, способная опьяняться даже тенью побед и славы! Несчастный, которого его малый рост вынуждает держаться в тени, молчать и подавлять в себе все восторги и все страсти… и душа, прекраснейшая из прекрасных, полная чувств высоких и пылких, жаждущая подвига! Это ли не разительный пример насильственного сопряжения чуждых друг другу грубой земной оболочки и заключенной в ней чистой души?
Впрочем, за подобными примерами можно и не обращаться к горбунам. Оглянитесь вокруг! Сколько некрасивых, грубо тесаных лиц, излучающих доброту и нежность! Сколько хрупких тел, таящих в себе душу твердую, как сталь! А сколько могучих костяков, в которых скрыта душа вялая и трусливая! А если даже не глядеть на других – кто не ощущает в себе самом пришельца из иных краев, благородного изгнанника, томящегося в стенах своей тесной темницы? Кто не чувствует порой, что душа его живет своими скорбями и радостями, волнуясь и трепеща от восторга, когда тело погружено в дремоту, или напротив – что душа его дремлет, пока тело предается любимым своим наслаждениям?
Когда выходит на сцену кроткая и чистая Дездемона, и Отелло нежен и доверчив, как она; когда змей Яго подползает к этим созданиям, пока еще безмятежно счастливым; когда затем в жилы Мавра проникает яд, который воспаляет его кровь, заставляет сверкать глаза и будит в сердце демона мести… взгляните тогда в зал, на всех этих людей, сидящих рядами и замерших будто неживые; перед вами – телесные оболочки, бездушные трупы… Безразличные к назревающей драме, они лишь занимают скамью своею недвижною массой; души отлетели от них; пылая и трепеща, содрогаясь от ужаса или исходя жалостью, души мечутся по сцене; призывают проклятия на Яго; кричат Мавру, что он обманут злодеем; окружают, стремясь защитить всей своей любовью и состраданием невинную возлюбленную, над которой собралась гроза. Пока в зале все недвижимы и словно оцепенели, в этом незримом царстве все, напротив, полно бурным движением.