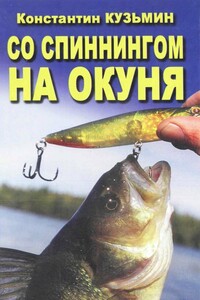Алана Инош
Пташка
Аннотация: Молодая художница, дочь Тилль, ищет способ, как преодолеть угрозу разлуки с Зирой, но в этом поиске находит нечто такое, что даёт удивительную способность — летать. Там, в небе, она встречает обладательницу дерзких синих глаз. Но внезапно, без объявления войны грянула новая угроза, с которой им предстоит бороться уже втроём, крылом к крылу, уничтожая врага и мстя ему за погубленный шедевр...
Примечание: это продолжение рассказа «Однажды осенью»
Однажды... нет, не осенью, а весной, когда от аромата цветения сладко кружилась голова и хотелось смеяться и петь, Зейна работала в своей мастерской. В открытое окно с порывами ветра залетали белые и розовые лепестки, а птичий щебет сопровождал её увлечённый труд приятным, жизнерадостным фоном.
Что за картину она писала? На полотне проступали две фигуры, которые стояли лицом друг к другу — глаза в глаза, сердце к сердцу. На одной был парадный мундир с орденами и блестящие сапоги, вторая — в длинном платье и с шарфом на плечах. Этот шарф укутывал её, защищая от холода, но глаза излучали грустное тепло, устремлённые на обладательницу боевых наград. Последняя, стройная и прямая, с великолепной выправкой, рыцарски-бережно поддерживала даму в платье, будто заслоняя её от незримой угрозы.
От картины, даже ещё не законченной, лучилась любовь... Нелёгкая, не увенчавшаяся счастьем и покоем совместной жизни, но всё равно бессмертная.
Зейна тоже любила чай. Она накрыла на стол и украсила его весенним букетом. Она ждала в гости Зиру. Стол получился красивый, хоть и без особой роскоши. Самым его главным украшением был, конечно, сам чай — янтарно-золотистый, душистый, в чистом и изящном обрамлении белых чашек с золотыми ободками.
— Здравствуй, родная. — Войдя, Зира поцеловала Зейну в щёку — нежно, прочувствованно, чуть задержавшись губами. Это доставляло ей особенную, трепетно-грустную радость.
«Не скупись на поцелуи», — помнила она. И выполняла этот завет Тилль.
— Очень, очень рада вас видеть, — тепло молвила Зейна, отвечая дорогой гостье объятиями.
Они воздали должное прекрасно заваренному чаю — той самой марки, которую любила Тилль. Зира спросила:
— Как дела? Работаешь сейчас над чем-то?
— Обычно я не показываю незаконченные работы, — улыбнулась Зейна. — Но мне хочется, чтобы вы это увидели.
Они стояли перед картиной. Суровый ледок в глазах Зиры опять таял и истекал влагой, но она справилась с чувствами. За последние десять лет — а именно столько прошло с того дня, когда они с Зейной стояли у картины «Любовь», сжимая друг друга в объятиях — в её волосах прибавилось седины, а вот длиннее они не стали. Зира носила по-военному короткую стрижку. Почти под корень сняв длинные, склонные к звериной лохматости волосы, она так к ним и не вернулась.
— Слишком... сладко, — дёрнулись её губы, приоткрыв чуть выступающие клыки.
В глазах Тилль проступило бы огорчение и огонь задетого самолюбия, а Зейна смотрела с задорной улыбкой и, кажется, даже не думала обижаться. Зира не выдержала и тоже улыбнулась. Её былая прямолинейная резкость, так часто ранившая Тилль, смягчилась то ли с годами, то ли от серебристого колдовства любимых глаз молодой художницы. Она проговорила:
— Прости, пташка. Не сердись на моё брюзжание. Ты, как всегда, умница... Но то, что ты изобразила — всё же больше сказка, чем быль. В глазах твоей мамы не было такого огня любви. Страх, иногда нежность, сострадание, привязанность — всё, что угодно, но не любовь...
— Упрямая вы, — вздохнула Зейна. — А я всё-таки считаю, что мама вас любила. Вы были дороги ей, очень дороги. Когда она говорила о вас, я чувствовала это. Она так боялась вас потерять, когда вы воевали... Много, много седины привнесли в её волосы дни войны!
— Тебе просто хочется выдать желаемое за действительное, — вздохнула Зира. — Такой взгляд твоей мамы, какой ты нарисовала — для меня скорее мечта. Несбыточная — ни при её жизни, ни... сейчас.
— Ладно, оставайтесь при своём мнении, — с грустной лаской улыбнулась Зейна. — А я останусь при своём. И буду любить вас за двоих — и за маму, и за себя.
Челюсти Зиры двинулись желваками, стиснутые: она пыталась удержать чувства за маской суровой непроницаемости. А Зейну вдруг охватила зябкость, слабость, комната поплыла вокруг неё, покачиваясь и звеня. Это не укрылось от Зиры. Её глаза сверкнули и печально потемнели от догадки.
— Родная... Держись. Давай-ка присядем.
Подхватив зашатавшуюся Зейну, она перенесла её на диван.
— Пустяки, пустяки, сейчас пройдёт, — бормотала та, бледная, охваченная тягостным туманом дурноты.
Она ласково цеплялась за руки Зиры, слабо пытаясь удержать их рядом, но та с суровым и горьким блеском в глазах выпрямилась и отступила.
— Пташка моя... Мне лучше и от тебя держаться подальше. Кажется, у тебя началось то же самое, что и у твоей мамы. Моя природа неискоренима. Я гублю всех, кого люблю.
— Нет, нет! — стараясь ободриться и победить дурноту и затормаживающий холод, простонала Зейна. — Нет, только не это! Это никак не может быть связано с вами, ведь до сих пор всё было хорошо!
— У тебя нет никаких иных болезней, ты здорова, — возразила Зира. И невесело подытожила: — Значит, это оно. Прости, детка. Нам лучше видеться как можно реже. Ты знаешь, как я люблю тебя... И не могу позволить, чтобы ты теряла силы, нужные тебе для работы, по моей вине.