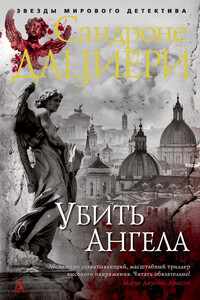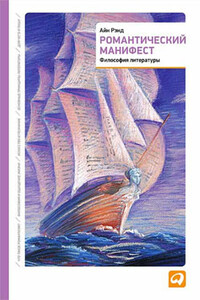Григорий Свирский
Прощание с Россией
Герой повести, перед тем, как уехать из России навсегда, решает в последний раз повидать фронтовых друзей. Чувствовал "с каждым днем острее и болезненнее - не смогу уехать, не простившись с ними. Россия огромная, а у каждого - своя". И от встречи к встрече, в воспоминаниях бывших солдат, встает перед читателем картина войны, несравнимая по яркости, правдивости и драматизму со всем, что мы читали до сих пор. Ибо мы вдруг понимаем: о войне написаны сотни томов, но повесть Свирского - первое произведение, написанное очевидцем и участником в н е п о д цензурных условиях. Только здесь, на Западе, смог писатель рассказать о "подснежниках" - тысячах замерзших трупов молоденьких ребят, брошенных без нужды сталинскими генералами под немецкие пулеметы; о фанерных самолетах "У-2", вдруг оказавшихся на современной войне; об израненных и обмороженных людях, побеждавших вопреки приказам бездарных командиров, и о жизни недюжинных этих людей в послевоенной России, которую они спасли от врага.
* * *
Казалось, я не был близок с людьми, с которыми хотел увидеться, оставляя Россию. Они присылали мне в день Советской армии поздравительные открытки с красными звездами и синими самолетиками. Я отвечал им тем же, хотя вначале пытался писать обстоятельнее. Как они жили после войны в своих дальних городах, не знал - не ведал.
И вдруг почувствовал, с каждым днем острее и болезненней, - не смогу уехать, не простившись с ними. Россия - огромная, а у каждого своя.
К кому я точно не собирался, так это к старшине Цыбульке. Но он всегда маячил перед глазами. Поэтому придется начать с него.
1
"ПЕРЕД КОМ СТОИШЬ?!"
Когда нас, новобранцев - оборванцев, выгрузили из красных вагонов "40 человек и 8 лошадей", нивесть где, в глубокий и сырой снег, тут же появилась власть. Эшелон встречал плотный, бульдожьей крепости человек с кривыми кавалерийскими ногами и в синей пилотке Военно-воздушных сил. Лицо круглое, толстощекое с медным отливом. Глаза косоватые, в общем, не очень примечательное лицо. Примечательными были, скорее, волосатые кулаки длинных рук. Толстенные пальцы не были сжаты плотно, и кулаки казались неправдоподобно огромными, словно таили в себе камень или свинчатку. Почти весь строй косился на волосатые медные кулаки, которые покачивались где-то возле колен встречавшего.
- Татарва, что ли? - шепнул мой сосед по строю.
Татарин обдернул четко отработанным жестом суконную шинель с треугольниками и птичками в петлицах, оглядел нас, чуть подавшись вперед, напружиненный, как перед дракой, и возгласил (на шее надулись жилы) сорванным голосом:
- Я старшина военной школы Цыбулька!.. Смешочки от-ставить! - И рявкнул зычно: - Спать будете у двух по трoх!
Тут я не удержался, хохотнул. Да и весь строй развеселился. Эшелон прибыл из Москвы. Народ заводской. И сильно выпивший. В последнюю ночь, когда услыхали от стрелочника, что дорога Киевская, ветка Гомельская, а значит, везут не на Финскую войну, на радостях не только водку, весь одеколон развели водой и распили.
- Татарва наша не иначе з Полтавы, - определил сосед вполголоса. И громче, с усмешечкой: - Это как понять, товарищ главный Цыбулька, "у двух пoтрох"? Что це таке "у двух пoтрох"?
- Не пoтрох, а по трoх! - вызверился старшина. - Русского языка не понимаете!
Строй загоготал, закачался. Наконец постиг: дадут по две кровати на трех человек. Как хочешь, так и спи!
Старшина Цыбулька двинулся вдоль строя, ударяя подошвами начищенных до ярого блеска яловых сапог по снегу и вдруг остановился возле меня. Выделялся я изо всей гогочущей братии, что ли?
После московской "прожарки" на Красной Пресне, где по четным прожаривали зеков из Бутырок и Матросской Тишины, а по нечетным - солдатские эшелоны, после этой адской, со ржавыми крюками на колесах, "прожарки" нам выдали нашу обувь искореженной, с отвалившимися подошвами, пальто и ватники измятыми, - я стал таким же новобранцем-оборванцем, как и все.
Чем привлек внимание?
Старшина Цыбулька вглядывался в мои вытаращенные глаза недолго, секунду - две, и вдруг закричал дико, устращающе, медные кулаки "по швам":
- Перед кОм стоишь?!
Я очень старался, но так и не сумел изобразить на своей заспанной физиономии раскаяния и ужаса. Я подумал вдруг о потенциальной мощи языка одна измененная гласная, и все как на тарелочке: и образование, и характер, и самомнение, и чувство неполноценности, в котором старшина не признавался, наверное, и самому себе.
- Из ниверситета? - почти с отвращением спросил Цыбулька и отвернулся. Судьба моя была решена. Под басисто-унылое разноголосье: "Броня крепка и танки наши быстры..." я зашагал в строю избранников старшины на кухню. Огромную солдатскую кухню оршанского авиагарнизона, навсегда провонявшую завалами гнилой картошки и чем-то терпким, отвратно-капустным... Я шагал туда под разудалые песни с присвистом, каждые вторые сутки. Спустя неделю я засыпал, стоило мне прислониться к стене.
Такое роскошество не поощрялось.
Если б меня заставляли, как других, чистить мороженую картошку и колоть дрова! Увы, я был весом легче других, и три раза в день меня опускали в огромный, как кузов самосвала, чугунный котел, держа за ноги, головой вниз, вычерпывать миской дымящийся гороховый суп или перловую кашу. Остатки. Чтоб можно было закладывать "по новой".