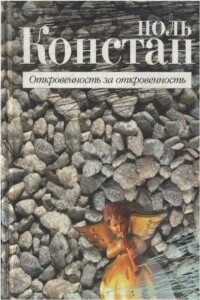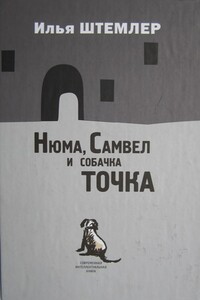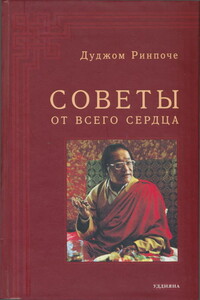Олег Блоцкий
Просчитался
Рядовой Фирсов был родом из Москвы и в армию не стремился. Однако хорошо отлаженная военная машина сбоев не знала, всех юношей держала на примете и желания ни у кого не спрашивала. Она заграбастала Фирсова в железные объятия, подстригла наголо, напялила форму двумя размерами больше, одарила тяжелыми кирзовыми сапогами и в итоге через три месяца мытарств в учебной части бросила в Афганистан.
До последней минуты надеялся Фирсов, что выручат родители, спасут, не дадут сгинуть сыну ни за грош в далекой, пыльной стране. Однако в столице произошел какой-то непредвиденный срыв, и москвича вместе со всеми загнали в глубокое, темное брюхо "Ильюшина", в просторечье называемого "скотовоз".
К этому времени молодой солдат стал совершенно иным, нежели на гражданке. Тогда был Фирсов заносчивым и слегка нагловатым. В меру, конечно. Настолько, чтобы лишний раз по морде не схлопотать от лихой компании с другого двора.
Любил в прежние времена размяться Фирсов винишком в зеленом скверике, обожал девочек московских, которые не по годам быстро созревали в центре культурной жизни страны. И как истинный патриот столицы из всех городов признавал Фирсов единственно Москву. За людей, конечно же, считал только ее жителей.
В армии помимо воли начал познавать Фирсов географию обширной страны. Оказалось, что кроме Москвы есть еще Краснодар, Владивосток, Северодвинск, Брест, Орел и бесчисленное количество других мелких городишек и поселков, откуда призывались в армию нынешние сослуживцы Фирсова.
Были они, как правило, парнями крепкими, простыми, честными, без выкрутасов и от службы не отлынивали. Фирсов, напротив, постоянно прикидывался дурачком, надеясь, что это спасет его от дальнейших неприятностей армейской службы. Но сослуживцы все прекрасно понимали, и после нескольких затрещин у Фирсова как рукой снимало все хвори, он продолжал заниматься несложными хозяйственными делами, чем, без сомнения, укреплял обороноспособность Родины на далеких ее рубежах.
Подобные короткие воспитательно-лечебные минуты были для признанного ротного симулянта делом частым. Вскоре Фирсов люто возненавидел Краснодар, Владивосток, Северодвинск, Брест, Орел и прочие "помойки" страны, откуда сползлись в учебную роту его обидчики, весь этот сброд.
Когда команду новобранцев начали в Кабуле раскидывать по дивизиям, бригадам, полкам и отдельным батальонам, надеялся забитый и затурканный Фирсов, что на новом месте будет ему полегче. Но мечты так и остались мечтами.
"Шлангов" нигде не любят. В Афгане, где дедовщина была возведена в культ, их били так же нещадно. А кроме этого за колючей проволокой базы маячили будущие боевые операции. Фирсов налетел на еще большее для себя зло. Солдат потел от ужаса. Руки опускались. И если его призыв ишачил почти круглосуточно, только крепче стискивая зубы, то нежная столичная душа Фирсова металась и маялась, как муха, залетевшая в пустую бутылку с узким горлышком.
На счастье, у Фирсова оказался земляк, который совсем неплохо пристроился на продовольственном складе.
Улучив свободную минуту, солдат тайком пробирался в большой металлический ангар, увенчанный серебристой гофрированной крышей. Там в приятной прохладе, торопясь и глотая окончания слов от обиды и подступающих слез, изливал горе Фирсов раскормленному холеному Букрееву. Сержант, на котором едва сходилась форма, сочувствовал. У Фирсова на душе легчало, и он торопливо убегал в роту.
Но однажды произошло то, что переполнило всяческое терпение солдата.
Фирсов лениво таскал мокрую тряпку по проходу между кроватями, едва обозначая уборку казармы, растаскивая грязь по углам. Дежурный по роте сержант Беридзе лежал на кровати, курил и следил за Фирсовым. Иногда их взгляды встречались, и тогда солдат мгновенно тянул губы в подобострастной улыбке, продолжая все так же волынить.
Беридзе долго выжидал, когда у молодого пробудится совесть, но понял, что у Фирсова ее или вообще нет, или она впала в летаргический сон ровно на срок армейской службы. Грузин вскочил с кровати, подлетел к моментально сжавшемуся Фирсову, испепелил жгучим тяжелым взглядом:
- Шэни дэда... - скрежетнул белыми крупными зубами сержант и треснул с размаха солдату в ухо.
Опытный Фирсов тут же брякнулся на пол, заскулил, застонал, заколотил ногами, словно в падучей, и свернулся клубочком, как ежик, укрыв голову руками.
Беридзе, разморенный жарой, принялся лениво пинать дневального, приговаривая: "Шэни траки... Ни можиш пол мить? Ни хочиш убират? Дэмбил, да? Два года служил, да? Я тибя научу убират! Я тибя научу работат! Синок ленивый!"
Фирсов, катаясь по влажному полу, визжал так, словно его живьем разделывали на части.
Потом он этот пол тщательно, ползая на брюхе, вылизывал чуть ли не языком.
Вечером москвич рыдал на складе и все спрашивал у Букреева, что же делать дальше, как можно избежать всего этого кошмара.
Толстый складской по-землячески участливо предлагал различные варианты уклонения от службы, практикующиеся в Афгане. Можно было: застрелиться; крепко сжав в кулаке запал от гранаты, дернуть за кольцо, лишаясь тем самым нескольких пальцев; проглотить иголку; достать мочу желтушника, выпить ее и через некоторое время самому угодить с гепатитом в инфекционный госпиталь; пробраться за колючую проволоку на минное поле и, наступив там на противопехотную мину, лишиться части ноги.