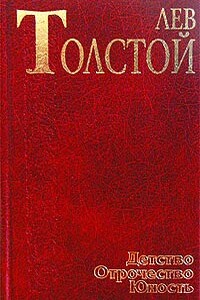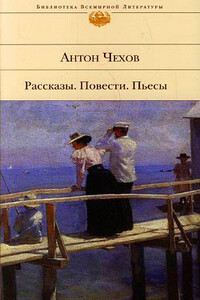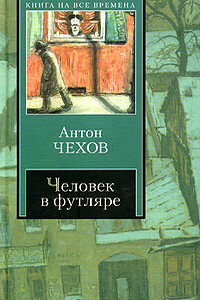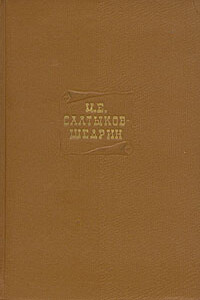Когда Петровским постом, в праздник, была подана на обед уха из пойманных накануне Мишкой окуней, Феня поднесла ложку ко рту и остановилась. Противный рыбный запах легкой тошнотой сжал горло, вызывая на лицо брезгливую гримасу.
— Ты чего же? — чуть вскинув глазами, спросил старик.
— Сыта, не хочу…
Старуха зорко поглядела на нее. Феня сидела, опустив голову, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать этого отвратительного для нее запаха вареной рыбы.
А вечером в тот же день, когда она ложилась спать, старуха пришла к ней и долго расспрашивала ее, все так же зорко и недоверчиво поглядывая. И потом сказала угрюмо, с темной и злой угрозой, как говорят иногда очень старые и брюзгливые старухи:
— Допрыгалась… Все гулянки, да погулянки, песни да посиделки… Беременна ты!…
Феня смотрела на нее остановившимися глазами, не понимая ее слов, но чувствуя, как мучительный стыд душной волной охватывает ее.
Старуха повернулась и, охая и кряхтя, как всегда, когда была очень сердита, пошла к двери. Феня спала в амбаре и на ночь оставляла дверь открытой, потому что было там душно и крепко пахло новой кислой кожей от развешанной под потолком сбруи.
Старуха тоже не закрыла двери, и ночь глядела в светлый квадрат призрачно и таинственно, полная серебристого сумрака молодого еще месяца и звонкой, как стеклянная, тишины. Где-то, должно быть очень далеко, на какой-нибудь росистой, закутавшейся седым туманом лужайке, звучно и коротко отдергивал свою односложную песню коростель-дергач, и от этого было жутко: все спит, и темным, и неподвижным стоит лес, и поле мертво и беззвучно, и, утопая в огромном бесконечном холоде, висит молчаливый месяц, а он не спит и живет своей таинственной, ему одному известной жизнью, и одинокий затерявшийся в тишине и сумраке ночи человек слушает его с мертвой тоской в груди.
Потом Феня плакала.
Так вошло в жизнь то новое начало, что внезапно и странно изменило весь мир. Он был таким же, как и прежде, и так же вставали по утрам люди и работали, сходились к обеду и бранились, так же приходила ночь, но не приносила она уже долгожданного забытья и отдыха, а была полна новых, жутких мыслей.
И то, что раньше будило отзвук тихого восторга — обрывок песни и острые звуки далекой гармоники, доносившиеся в открытую дверь сарая ночью, — было чуждо и ненужно, и самая память о веселой гулянке на улице с молодежью потускнела и ушла, и умерла, как умерло веселое, беззаботное девичество…
Широко открыв глаза и неотступно следя за тем, как медленно и неуклонно двигался голубой квадрат лунного отсвета на полу, Феня лежала в душном, пахнущем новой кожей сарайчике, но уже не плакала. Высохли слезы, хотя хотелось плакать, и — знала — легче было бы плакать, а их не было, как будто все они собрались терпким, сухим комком у горла и давят грудь тупой безысходной тяжестью и не могут пролиться.
Внезапно и неожиданно громко пел петух, где-то недалеко, на соседнем дворе ему отвечал другой, потом третий, и еще, и еще, потом все умолкали и прислушивались. Наполненная росистым запахом пряной проростающей травы, как густое прозрачное вино в хрусталь ной чаше, стояла тишина, пронизанная несмелым призрачным светом месяца… И когда уже последний отзвук странной ночной переклички замирал где-то над дремотными полями, издалека, словно из другого мира, знакомым и тихим эхом отзывались петухи другой деревни. И от их бледного, затушеванного расстоянием крика было жутко…
Все спят, а не спит только одна девушка и подслушивает незнакомую ночную жизнь и смотрит в светлый квадрат двери испуганными глазами, а где-то в ней в таком молодом и знакомом теле, незримо свершается таинственная работа. И новая, требующая правда войдет — уже вошла в ее жизнь, и стала над нею терпеливая, немая и близкая.
А днем неотступно и упрямо, как злой ростовщик, всюду шла за ней одна мысль. Работала она на огороде, помогая старухе сажать капусту, нося воду и окапывая ямками бледные, слабые листочки рассады, или обряжала скотину, задавая на ночь корм, или сновала по избе за стряпней, — всегда думала о ненужности, нелепости рождения нового, неизвестного человека, которого никто не хотел и который ломал и коверкал ее нужную и известную жизнь.
Так было странно, что, вызванный из мрака, придет он и властно заявит о своем праве жить и потребует, чтобы жизнь других людей подчинилась ему…
Зачем? Да, зачем?!
С тех пор, как семья узнала, что произошло с Феней, с ней почти не говорили или говорили только по делу, когда надо было послать на работу или побранить за худо сделанное.
Отчуждение и враждебность стали невидимой стеной между нею и семьей, и было страшно это, потому что прежде все обращались с ней хорошо и внимательно. Никто не говорил о сватовстве, а известно было, что старик-дядя ездил уже два раза в Красноселье, и они сладились уже с лавочником о свадьбе. Она знала лавочникова сына, встречая его на гуляньях и праздниках, и такой трогательной казалась ей его робкая застенчивость, чуждая обычному озорству деревенской молодежи, так нравилась ей его скромность, то, что он не пьет, что он читает книжки и редко бывает на гуляньях. И когда она думала о свадьбе, — спокойное, немного даже гордое чувство тихо и сладко волновало ее; и часто, стоя где-нибудь между гряд или у колодца, она мечтала: выйдет замуж и будет холить этого хрупкого, задумчиво-грустного Яшу, с нежной заботливостью ходить за ним и беречь незнакомую ей, немного таинственную и оттого особенно важную жизнь его…