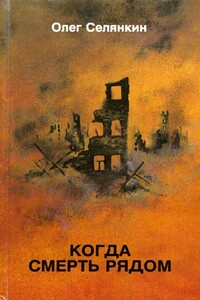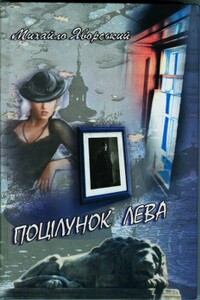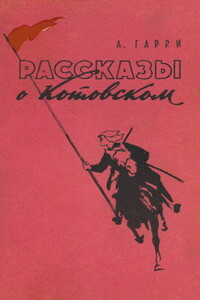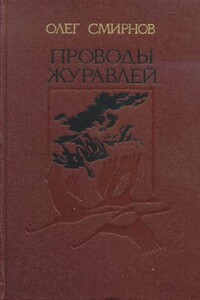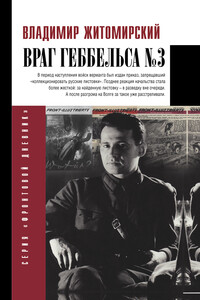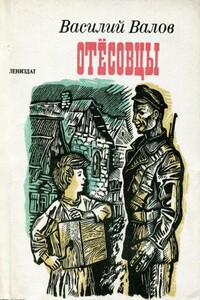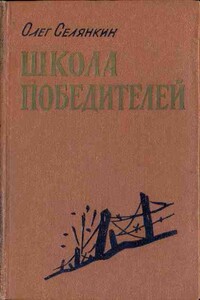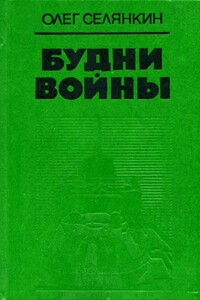У Полярного круга, где солнце месяцами не осмеливается взглянуть на землю, я случайно обнаружил недостроенную железную дорогу. Вернее, насыпь, в которую словно вросли почти сгнившие шпалы. Изредка около насыпи можно было увидеть и огрызок рельса или какую иную железяку, увешанную ржавчиной.
В том краю кое-где надо одолеть сотни километров, чтобы встретиться с человеком. Зато там, в ленивых речках и сонных озерах, рыбы — ведрами черпай. И грибов в тундре предостаточно: здесь их не уничтожают жадные грибники, здесь их едят только северные олени. И на болотных кочках красно от клюквы. Даже весной от прошлогодней ягоды бывает красно.
Метрах в ста от насыпи, осевшей, основательно размытой многими дождями и вешними водами, на берегу речушки, петлявшей так, словно хотела сама себя ухватить за хвост, и стояла… стояло… Не знаю, как назвать то, что видел там. Зимовьем охотника? Недостроенной банькой? Короче говоря, это было что-то черное, вросшее в землю почти на метр. Из обрезков шпал и стволов лиственниц сооруженное.
В этом «что-то» один угол занимала плита, сложенная из обломков гранитных валунов, которые вокруг, казалось, сами прорастали сквозь зеленую траву. Имелось и подобие стола — два ящика. Верхний из них от ударов и других механических повреждений оберегал лист фанеры, теперь покоробившейся, расслоившейся. Только скамья — толстенная плаха, возлежавшая на двух чурбаках, и сегодня выглядела надежной, способной выдержать тяжесть даже не одного человека. Раньше, похоже, она являлась и лежанкой того, кто когда-то жил здесь. Именно — жил. Его могилу я случайно обнаружил рядом с бывшим жильем. Она уже почти сравнялась с землей. Ее можно было бы и не опознать, посчитать за самый обыкновенный холмик, если бы не покосившийся крест. На нем я увидел корявые буквы, выжженные скорее всего гвоздем или какой другой подобной ему железякой. Они равнодушно советовали: «Спи с миром».
Ни имени или фамилии похороненного здесь, ни даты смерти его — ничего этого не было на кресте.
Подправив могилу, я решил перебрать крышу этого «что-то», когда-то служившего человеку жильем. Чтобы оно вновь могло стать пристанищем для усталого путника.
Разворотив то гнилье, в которое превратилась бывшая крыша, я и нашел металлическую коробку — «цинк», которая обычно была внутри любого патронного ящика. В ней лежало шесть самодельных тетрадок из толстой оберточной бумаги, надежно прошитой дратвой. На обложке верхней печатными буквами, свидетельствующими о том, что их хозяин когда-то был хорошо знаком со шрифтом, употребляемым всеми чертежниками, было четко высказано желание автора: «Прочитал? Передай другому».
Каждая тетрадка была сложена пополам, и все они тщательно укутаны в вощеную бумагу и некое подобие клеенки. Значит, невероятно дороги были эти тетрадки кому-то.
И все равно бумага уже махрилась по краям. И вообще чувствовалось, что еще, может быть, два или три года — и она станет безликим прахом. Каким уже стало многое из того, что волею судьбы оказалось здесь, у Полярного круга.
Я осторожно, бережно расправил и раскрыл тетрадку, лежавшую верхней. Машинально отметил, что от времени чернила кое-где уже основательно порыжели. А потом…
Я прочитал все шесть тетрадок. И, выполняя волю усопшего автора, передаю их другим. Вам передаю. В том виде, в каком нашел. Моя работа над ними свелась лишь к повторному написанию — восстановлению! — тех букв и слов, которые уже почти исчезли под воздействием быстротечного и безжалостного времени.
Итак…
Соотечественник! Кто ты ни есть, прошу тебя, Богом заклинаю: прочитай: мою исповедь, Это важно для памяти обо мне, это важно прежде всего тебе, чтобы понять очень страшное.
И, пожалуйста, не обращай внимания на стиль и даже орфографию: судьбой мне отведено слишком мало времени для написания истории моей короткой жизни, я просто не имею права тратить его еще на что-то.
Прошу тебя, соотечественник: пересиль себя, прочти мою исповедь и передай другому. Среди этих других, может быть, окажется и тот, кто знавал меня и в доброе время…
Не люблю кукушек. Временами, когда они особенно безумствуют, можно сказать, ненавижу. Не за то, что норовят прожить на дармовщину, потомство свое рассовывая по чужим гнездам. И даже не потому, что их желторотики жизнь свою начинают с убийства: чтобы самим побольше жратвы, досталось, выталкивают из гнезда птенцов своих кормильцев.
С первого месяца Великой Отечественной невзлюбил я кукушек. Всех, без исключения. Даже тех, чьего голоса никогда не слыхивал. За безбожное вранье возненавидел. Прекрасно понимаю, что кукушкам сам Бог велел куковать в начале лета. Умом принимаю и то, что эти — птицы вовсе не виноваты в том, что люди, услышав их кукование, почти всегда спрашивали: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько еще лет мне осталось жить?»
Задавали этот или подобный, вопрос, вроде бы и усмехаясь, но в душе очень внимательно вели счет годам жизни, обещанным кукушкой.
Кто мне скажет, скольких солдат невольно обманули кукушки, наворожив многие лета счастливой жизни?
А как звенели леса от голосов кукушек в том, 1941 году!