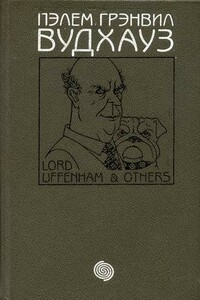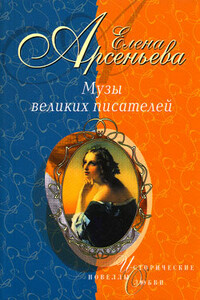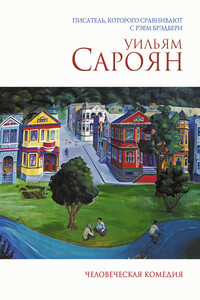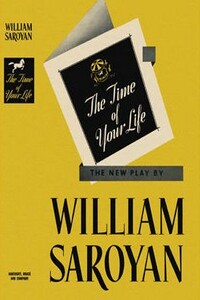После револьвера (которого тебе не видать как своих ушей и который тебе не особенно-то и хочется иметь, но о котором все же приятно думать, что на всем белом свете нет ничего желаннее), так вот, после револьвера наиболее значительным у мальчишек считалось обладание фонариком. Фонарик и превращал тебя в современного светского мальчика, который был в курсе всех последних достижений науки и техники. И, что еще важнее, делал тебя героической личностью. Тебе всего одиннадцать, а ты не боишься темноты, не боишься мира и недобрых людей, населяющих его, зловещих теней, которые отбрасывают эти субчики, и прочей нечисти! Ты – мальчик с фонариком. Этим все сказано: ты ходишь в темноте и высвечиваешь всякую всячину, опасную и жутковатую.
Никогда тебе не иметь ни револьвера, ни коня. С револьвером наломаешь дров и вместо мистера Девиса, директора школы, застрелишь своего кузена Джо. Или промажешь и отстрелишь кому-нибудь нос. Причем какому-нибудь хорошему, любимому тобой человеку. Вот он стоит на углу под вечер и держится рукой за то место, где у него был нос. А тебя грызет совесть, и ты пытаешься промямлить что-то вроде: «Честное слово, мистер Вилер, честное-пречестное, я не хотел отстрелить вам нос. Я целился в ястреба, который пролетал над Домом Республики. Я прошу прощения, мистер Вилер… я очень сожалею о случившемся».
Или же. В тот самый момент, когда ты предпринимаешь повторную молниеносную попытку свалить ястреба, кто-то орет тебе что-то на ухо, ты мгновенно оборачиваешься и отстреливаешь нос самому себе.
Не годится. Слишком рискованно. С конем та же история. Если у коня хватает разумения и он знает, как себя вести, то еще куда ни шло. А если нет, а если ему вздумалось скакать туда, куда тебе не хочется, тогда лет через шесть-семь ни о какой личной жизни уже говорить не придется, потому что ты будешь жить буднями лошади и даже станешь смахивать на оную и ржание издавать соответствующее.
Никаких револьверов, никаких лошадей. Никакого отстреливания носов, никаких благоприобретенных лошадиных манер.
А фонарик! Это ж совсем другое дело. Яркий, чистый свет, струящийся в ночи. Ты сам ему хозяин и бросаешь луч, куда пожелаешь. Нажал на кнопку, и – пожалуйста – светит.
Снял палец с кнопки – погас.
Здорово! Замечательный возраст! Прекрасный мир!
Твоего кузена Джо на самом деле зовут Овсеп, но это же Америка. Овсеп?! Откуда им знать такое имя? Странно как-то звучит. Не Овсеп, а Джо. Вполне закономерная замена.
«Овсеп» – это то же, что «Джозеф». Укорачиваем «Джозеф», получаем «Джо». Овсеп. Перед «О» подставляем «Дж». Вместо «п» – «ф», получается «Джовзеф». Убираем «в», выходит – «Джозеф». Половинку отбрасываем, и – вот, любуйтесь – Джо. Твой кузен. Не важно, как ты пишешь, и что вытворяешь с его именем, и что ему соответствует в армянском, или как оно звучит по-американски, он – все тот же мальчишка. Ему тоже одиннадцать, только он смешнее и забавнее. Да на полтора месяца моложе. А это значит, что… ты появился на свет раньше. Ты был первым. Он пришел в этот мир на целых полтора месяца позже. Ты уже сорок пять дней жил и сопел, прежде чем пожаловал он. Замечательный возраст! Прекрасный мир! По-армянски – Овсеп, по-американски – Джо. Мировой парень!
Смешной, забавный.
Как он резвится? Да как дикий, необузданный индеец. Как он бегает? Словно олень. Как смеется? Как никто в целом свете. Мой лучший друг. Джо. Джо Акопян. Акопян по-армянски означает… ну тут уж ничего не поделать. Можете присобачить в начале «Л» или еще что-нибудь, но толку от этого будет мало. У вас получится «Лакопян» – вообще ни в какие ворота! К тому же никто никого по фамилии не называет, кроме мистера Девиса, когда тот не в духе. Так что любите и жалуйте, Джо Акопян. Бояться темноты? Джо не боялся ничего. Даже когда он подхватил грипп, и то ему все было нипочем.
– У меня болит голова, – сказал он. – Выйду гулять завтра.
Тогда я пошел к его маме и спросил, как он себя чувствует.
– С ним сидит доктор, – ответила она.
Вот тогда мне стало не по себе. Я понял. Я все понял. Бедный Джо! Бедный Овсеп Акопян, более известный под именем Джо! Бедняга Джо умирает.
Я вышел на улицу в объятия ноябрьской тьмы и потопал домой. Боже, Боже, до чего же я был зол! Как мне не хватало этого самого револьвера и коня! Я вскочил бы в седло и помчался галопом по промозглым зимним улицам туда, где собирались эти врачи, выхватил бы револьвер перед их домом и проорал им:
– Эй, вы, шарлатаны!
А потом, когда они высыплют на улицу, я бы погнал их перед собой, покрикивая:
– Или вы спасете Джо, или я с вами со всеми разберусь!
Вот я пригоняю табун врачей – полторы дюжины – к дому, где болеет Джо, поворачиваю коня, скачу к священникам и проделываю то же самое с ними:
– А ну, вруны, вылезайте, – кричу я им. – Как насчет Джо? Забудем вашу болтовню о небесах. Марш к дому, где живет Джо, и давайте молитесь, да как следует. Вы там себе по два века отмерили и воете про свой рай, а такому парню, как Джо, помирать от гриппа в одиннадцать лет!
Даже во время страшной эпидемии гриппа, когда все мерли как мухи, Джо не боялся.