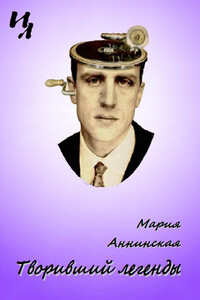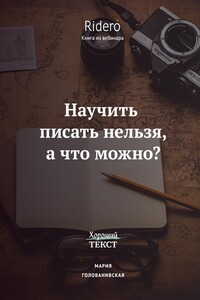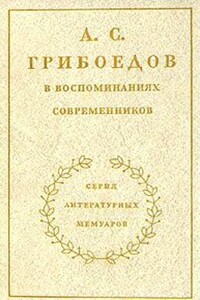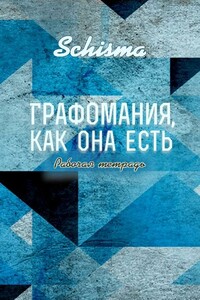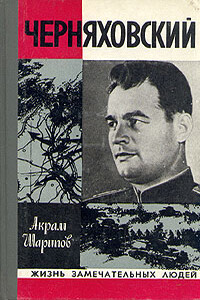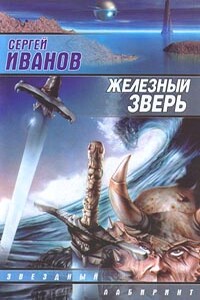И. А. Рацкий
Проблема трагикомедии и последние пьесы Шекспира
“Театр”. - 1971. №2. С. 113.
“Перикл”, “Цимбелин”, “Зимняя сказка” и “Буря” - вот завершающий аккорд шекспировского творчества. К сожалению, эта интереснейшая страница драматургии сравнительно мало известна. Совсем незнаком советскому зрителю “Перикл”, вряд ли можно счесть удачными редкие постановки “Цимбелина” и “Зимней сказки”, а такой общепризнанный шедевр Шекспира, как “Буря”, которую многие называют венцом его драматургической деятельности, появился на советской сцене один только раз, в 1918 году. Может быть, поздние творения Шекспира чужды восприятию человека нашего столетия? Однако это предположение опровергается опытом мирового театра XX века.
Очевидно, непопулярность у нас этой части шекспировского наследия объясняется другими причинами. В какой-то мере здесь повинна и наша шекспировская критика. Советское шекспироведение много сделало для изучения и правильной интерпретации творчества Шекспира и тем немало помогло театральным деятелям, но последним его драмам уделяло значительно меньше внимания, чем они того заслуживают.
“Перикл”, “Цимбелин”, “Зимняя сказка” и “Буря” - едва ли не самые противоречивые и сложные явления шекспировской драматургии. Долгое время эти пьесы считались игрой утомленного ума, красивыми сказочками, которыми развлекался великий мастер на склоне лет. Теперь за “красивыми сказочками” признают и глубокий смысл, и выдающиеся художественные достоинства; на основе их толкования исследователи нередко строят концепции всего творчества Шекспира. И тем не менее некоторые коренные проблемы, без решения которых невозможно ни подлинное понимание этих произведений, ни верное сценическое их прочтение, остаются открытыми.
Одна из таких проблем - вопрос о жанре поздних шекспировских пьес. Ученые давно сошлись на том, что произведения эти близки друг другу не только временем написания, но и рядом сходных черт, свидетельствующих о внутреннем их единстве. При этом художественное их своеобразие столь велико, что позволяет говорить о ярко выраженном здесь новом драматургическом качестве. Определить это качество, пользуясь привычными жанровыми терминами, без натяжек нельзя, и, хотя финальные драмы именовались (со многими оговорками) и комедиями, и - реже - трагедиями, критики чаще предпочитают пользоваться нейтральным “последние пьесы”: слишком уж разительно отличаются “Перикл”, “Цимбелин”, “Зимняя сказка” и “Буря” и от комедий, и от трагедий Шекспира.
Дело, конечно, не в терминологических тонкостях. Вопрос о жанре последних пьес в сути своей и есть вопрос о природе нового качества шекспировской драматургии, то есть о совокупности художественных и идейных особенностей этих драм, о новом видении мира и его художественном воплощении в последний период творчества Шекспира.
Вместе с тем вопрос этот имеет не только “шекспироведческий” интерес. Он связан с большой теоретической проблемой, многие аспекты которой чрезвычайно актуальны. Ибо жанр, видоизменением которого являются последние пьесы Шекспира, жанр, казалось, умерший в XVII веке, с конца XIX века (на иной, конечно, основе и в иных формах и проявлениях) начинает играть заметную роль в мировой драматургии. Жанр этот - трагикомедия, для шекспировских финальных произведений - трагикомедия романтическая.
В основе трагикомедии, как и в основе комедии и трагедии, лежит определенное, эстетически оформленное восприятие действительности, определенное мироощущение, которое для краткости можно назвать трагикомическим, подобно тому как мы говорим о восприятии комическом или трагическом.
Трагикомическое мироощущение всегда связано с чувством относительности существующих критериев: моральных, социальных, политических, философских. Основы миропонимания, незыблемые в трагедии и комедии, в трагикомедии оказываются шаткими, неустойчивыми или полностью размытыми. Трагикомическое восприятие не признает абсолютного, субъективное здесь может видеться объективным, объективное - субъективным. Трагикомедия отказывается от нравственного абсолюта комедии и трагедии, от их четкого представления о норме, порядке, морали, принципах мироустройства и человеческого поведения.
Трагикомическое мироощущение в силу своей неуравновешенности включает в себя самые разнообразные и зачастую противоположные элементы. Чувство относительности может ограничиваться сомнением (как у Шекспира) или доходить до полного релятивизма (как у Бомонта и Флетчера); переоценка моральных устоев может сводиться к неуверенности в их всемогуществе или к полному отказу от твердой морали; неясное понимание действительности может вызвать к ней жгучий интерес или полное безразличие; туманное представление об общих закономерностях бытия может сказаться меньшей определенностью в художественном их постижении и отражении или равнодушием к этим закономерностям - вплоть до признания почти полной алогичности мира. Трагикомический писатель может склоняться к комическому или трагическому восприятию, хотя не переходит грань, отделяющую его от того и от другого.
Трагикомическое мироощущение начинает доминировать и отливается в определенные формы трагикомедии в первую очередь под влиянием кризиса идеологии, вызванного кризисом социальным. Идеологические сотрясения и сдвиги, социальное беспокойство, противоречивые идейные течения, словом, все те явления, которые характеризуют духовную атмосферу переломных моментов в истории общества, - вот благодатная почва для возникновения и творческого развития трагикомедии.