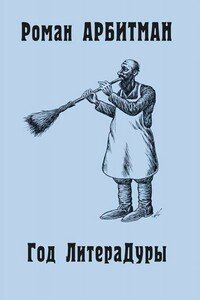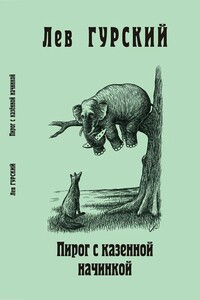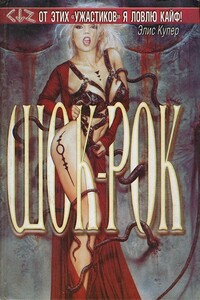Дорога туда оказалась совсем не такой, как мы помнили. От съезда с магистрали мы с Джиной проехали много километров, очень смутно представляя направление. «Давайте мы покажем дорогу по карте», — предложили наши родители, ее и мои, сначала дома, во время похорон, потом за завтраком в мотеле. «Нет, нет, — отвечали мы. — Конечно, мы помним, как добраться до бабушки». Мы возмущались, что часто бывает со взрослыми людьми, когда родители обращаются с ними, как с девятилетними.
Три раза повернув не туда и поплутав еще минут пятьдесят, мы выехали на родную старую гравийную дорогу. Переглянувшись с Джиной, мы почувствовали, что между нами, двоюродными братом и сестрой, снова возникло что-то вроде телепатии.
— Точно, — сказал я, — мы никогда больше об этом не говорили.
Она настояла, чтобы я пустил ее за руль моей машины, будто пытаясь доказать… что-то… и выдернула ключи из зажигания.
— Я и сейчас не хочу.
Останься всё как раньше, может, мы и смогли бы ориентироваться по приметам, которые помнили, хоть и никогда не замечали. Но всё изменилось, и мне не казалось, что я помню лишь некую идеализированную версию того, что никогда не существовало.
Я помнил, что этот проселок был очень скучным из-за непрерывной череды полей и фермерских домов. Меня, тогда еще мальчишку, больше всего ужасала возможность оказаться на узкой, не предназначенной для обгона дороге, позади медленно ползущего старенького трактора. Правда, как только мы добирались до места, жизнь оказывалась не такой уж и плохой. Бабушка всегда держала в доме пару охотничьих собак, а вокруг лежало достаточно лесов с глухими тропинками, чтобы хватило упорным ребятишкам для исследований до конца лета.
Хотя сейчас…
— Слушай, — сказал я, — а эта дорога ведь не всегда была такой унылой?
Джина покачала головой:
— Конечно, нет.
Я думал о трейлерах на дороге и горах мусора, которые вокруг них выросли. Кажется, в те времена, если машина ломалась, ее прятали в амбар и там чинили, а не выставляли напоказ, как трофей. А еще я вспомнил, как катался на дедушкиной машине. Тогда, встречая на дороге едущий навстречу автомобиль, водители по-дружески махали друг другу, даже если не были знакомы. Все друг друга приветствовали. Те времена прошли. Теперь вместо приветствия нас провожали тяжелыми мрачными взглядами.
Мы постояли у машины, пытаясь убедить себя, что действительно приехали в нужное место. Что клен с розовыми листьями, в тени которого мы остановились, тот же самый, что видел мой дед, а потом и я, что он перестал быть похожим на тоненький бобовый росток и вырос, как и я сам. Он действительно был тем самым кленом, потому что на его нижних ветках висела старая высохшая тыква с отверстием не больше долларовой монеты. Деревья вокруг дома украшало несметное количество таких же тыкв. И, хотя наверняка это уже были другие тыквы, я все равно с удовольствием вспоминал, что наша бабушка Эвви вешала их до самой смерти; вся ее жизнь измерялась бесконечной чередой тыкв, которые она год за годом превращала в птичьи домики.
Как давно я был здесь в последний раз, Джина?
Ну… четыре или пять тыкв назад. Правда. Так давно.
Да уж, стыдно…
Это был все тот же дощатый фермерский домик, белый и всегда облупившийся. Я никогда не видел его не только свежеокрашенным, но и очищенным до голых старых досок тоже. В голову невольно приходила мысль, что краска, которой красили дом, каким-то образом линяла прямо в банке.
Мы вошли внутрь через заднюю кухонную дверь — я вообще не помнил, чтобы кто-то пользовался парадным входом, — и словно попали во временную капсулу. Здесь ничего не изменилось, даже запах — сложная смесь свежесваренного утреннего кофе и слегка поджаренной еды.
Мы остановились в гостиной у ее кресла, где она сидела в последний раз. Кресло принадлежало только ей, и даже мы, дети, чувствовали себя неловко, когда в него садились, хотя она никогда никого из нас не прогоняла. Оно было древним уже тогда, хотя его и обивали новой тканью. За десятилетия аккуратного пользования его сиденье примялось. Она в нем шила, втыкая в широкие, как разделочные доски, подлокотники иголки с продетыми в ушки нитками.
— Если уж нам и предстоит умереть, — сказала Джина, — то лучше пусть это будет так.
Кресло стояло у окна, выходившего на дом соседей; они ее и нашли. Наверное, она читала. Книга лежала на подлокотнике, на ней сложенные очки, она же просто сидела, уронив голову, но по-прежнему с прямой спиной. Соседка, миссис Тепович, сначала подумала, что она спит.
— Как будто она сама знала, что ее время пришло, — сказал я. — Понимаешь, она закончила читать и решила, что пора.
— Наверное, это была чертовски хорошая книга, если она решила, что ничего лучше уже не прочитает, — Джина говорила с абсолютно каменным лицом.
Чего еще от нее ждать.
Я выдавил из себя смешок:
— Гореть тебе в аду.
Она опять стала серьезной, опустилась на колени и провела рукой по шершавой ветхой ткани.
— Что с ним делать? Оно никому не нужно. Это кресло никому в мире больше не подойдет. Оно было ее. Но не выбрасывать же его?
Она права. Мне невыносимо думать, что оно отправится на свалку.