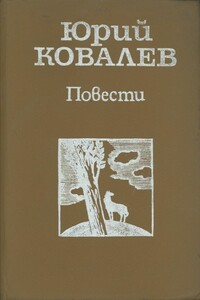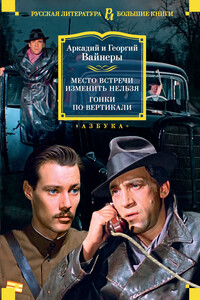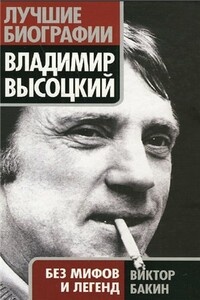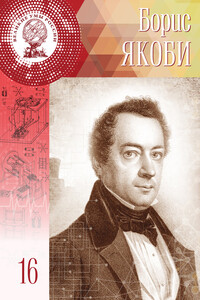...Если долго дышать на стекло, разрисованное за ночь морозом, да потом еще скрести это место ногтем, тогда в занавеске изо льда появится маленькая дырочка-глазок. И потом через этот глазок можно увидеть кусок двора, засыпанного снегом по самый плетень, покосившуюся, сорванную с верхнего навеса половину ворот. Другую половину Мишка с дедушкой повалили и порубили на дрова еще на прошлой неделе. А вот эта, вторая, никак не поддавалась. Дедушка сам ворота делал и сам навешивал их, потому они такие крепкие. Когда дедушка был молодым, работал в кузнице и был намного сильнее ворот, а теперь ворота сильнее... Мало силы осталось у дедушки, потому что он уже старый, а сам Мишка еще не успел набрать силу... Даже последнюю, наверное, растерял с тех пор, когда началась война...
А когда же она началась? Ведь, кажется, совсем недавно у них в школе был утренник, и Мишке на нем подарили книгу с надписью — «За отличную учебу и примерное поведение». Мишка почти не расставался с книгой, на обложке которой молодой, лихой кавалерист несся в атаку, размахивая шашкой; он открывал первую страницу, любуясь своими именем и фамилией, выведенными красивым почерком.
А потом началось это. Страшное. То, чего еще никогда не было в Мишкиной жизни. Кругом только и слышалось: «Война, война, война!» Казалось, взрослые забыли все другие слова. Теперь Мишка целыми днями не видел отца с матерью. Когда они уходили, когда приходили, он не знал, не видел, не слышал. Может, они вообще не приходили и не уходили, а так и оставались там, где были: в поле, на ферме, в конюшне или правлении колхоза.
А однажды Мишка столкнулся с матерью, обрадовался, уткнулся ей лицом в грудь.
Мать взлохматила Мишке волосы, поцеловала в голову, прошептала так тихо, что Мишка скорее почувствовал, чем услышал ее слова:
— Ты уж, родной, не серчай на нас... Прости нас с отцом! Сам видишь, что делается на белом свете-то... Кругом горе какое! Война идет к нам — подумать только! И про тебя мы забыли совсем. ...Да нет, сыночек, не забыли! Хоть отец, хоть я ночью возле твоей постели постоим минуту-другую — и то легче становится... А фашист недалеко уже... Слышишь, как громыхает?
И Мишка совсем ясно услышал накатывающийся издали глухой, непрерывный гром, какой всегда бывает, когда из-за леса к селу незаметно подкрадывается гроза. Только раньше грома и молнии не боялись, и все старые люди говорили, что это Илья-пророк в золоченой колеснице катается по небу, а теперь даже мама со страхом смотрит в ту сторону, где непрестанно гремит, и другие тоже смотрят туда со страхом, переглядываются, вздыхают тяжело.
Мишка сразу же помчался домой, сложил в старенький клеенчатый портфель новые учебники, уже выданные в школе, в самую середину затолкал подаренную ему книгу и спрятал свое богатство в известный только ему тайник — между досками полатей и стеной.
А назавтра, на самой заре, когда только-только коров на луг выгоняют, мать разбудила Мишку. Может, не разбудила, может, Мишка сам проснулся, почувствовав теплое мамино дыхание.
— Мишенька, сыночек, вставай, родной, уходить будем, — шептала мать, словно боялась, что еще кто-то услышит, хотя в хате никого, кроме нее и Мишки не было. — Ферму ева-ку-и-ро-вать будем, — с трудом произнесла мать незнакомое Мишке, да и ей самой, наверное, слово. — Ты со мной пойдешь... Отец нас потом догонит... Мы-то со стадом далеко не успеем уйти... Ты в помощниках при мне останешься...
Все это Мишка хорошо помнит, будто только вчера мать стояла возле его постели и сквозь слезы вышептывала горькие слова. И еще Мишка помнит горы разноцветных узлов на скрипящих повозках, серую завесу пыли, закрывшую от него родное село. И рядом — мамины глаза, боль и тоску в которых не могли спрятать совсем не просыхающие слезы. Чтобы не видеть эти глаза, Мишка нарочно отстал и пошел рядом с маминой напарницей по ферме — тетей Ксеней. Раньше там, где была тетя Ксеня, — всегда смех стоял такой — на другом конце села слышно. Даже самых невеселых могла развеселить тетя Ксеня. А теперь она шла грустная или сердитая, не поймешь. Но хоть не плачет — и то ладно, только все время оборачивается назад...
Мишка тоже оборачивался назад чуть ли не на каждом шагу, ожидая, что вот-вот из-за стены пыли вынырнет отец на своем любимце — сером в яблоках иноходце Порохе — единственной лошади во всей колхозной конюшне, на которую отец не разрешал Мишке садиться.
— Горяч конь, не по тебе еще такой рысак! — говорил он сыну, и тот ничего не мог возразить в ответ: далеко не каждому взрослому было под силу оседлать Пороха. — Я посажу тебя на него.
Мишка улыбался и согласно кивал головой: это же говорил не только отец, но еще и старший конюх в колхозе. Уж кому-кому, как не ему и знать лошадей!
Позади и вправду послышался быстро приближающийся перестук копыт, и мимо Мишки, чуть не столкнув его в придорожную канаву потемневшим от пота боком, промчался Порох. «Неужто скинул отца?» — мелькнула у Мишки и тут же спряталась тревожная мысль: на жеребце не было седла, да потом отца не могли сбросить даже самые норовистые стригуны, которых впервые оседлывали для объездки.