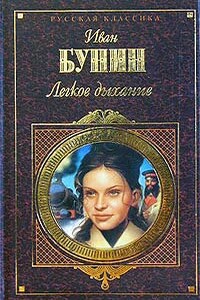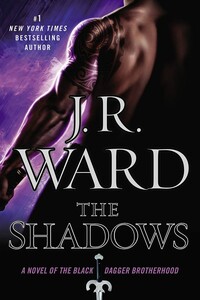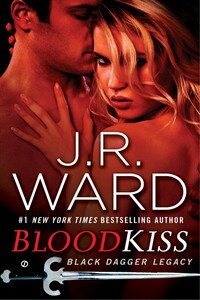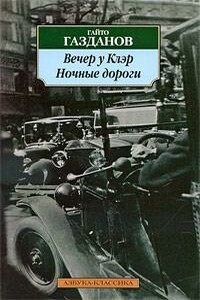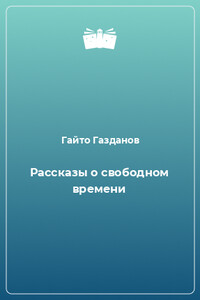Эти три эпизода, три главы, — почти не связаны хронологически и сведены лишь условно в форму одной повести. Я все же настаиваю на их общности. Прежде всего, это рассказы о неудачах, — так как смерть я считаю неудачей. Кроме того, в облике каждого из героев я нахожу предрасположенность к катастрофе: их неудачи понятны и естественны.
География подарила нам великий закон равнодушия; история учит нас быть беспристрастными ко всему, что создано выдумками мечтателей и руками рабов многих поколений, — в чем слышатся трепет мысли и прыжки запертого сердца.
Я не всегда умел пользоваться подарками географии: каждую смерть я принимал как личное оскорбление. Время научило меня быть спокойнее. Теперь я ищу причины — и констатирую известную естественность в судьбе моих героев. Мой пес умер потому, что не понял революции. Володя Чех был убит в бою, — может быть, потому, что эта же самая судьба не любит одноглазых, слишком напоминающих ей о ее собственной слепоте. Преступление, жертвой которого стала мадам Шуцман, было, несомненно, совершено художником: я не решусь утверждать, что ее неоригинальность и обыкновенность послужили поводом для убийства, но это предположение нисколько не менее вероятно, чем другие.
Наконец, Илья Васильевич Аристархов кончил так грустно потому, что был сам по себе несвоевременен и несовременен, — был результатом ошибки в вычислении лет. Революция, строгий цензор и скверный математик, подчеркнула эту ошибку, раз навсегда лишив Илью Васильевича возможности выйти за пределы подчеркнутого. Таким образом, он был осужден. С ужасом он увидел, что справа и слева ему загромождает дорогу то, что он называл «тяжелыми стенами реальности». Он мог двигаться только вперед или назад. Он выбрал второй путь; этот путь оказался аллеей сада, прилегающего к больнице для умалишенных.
Повесть о трех неудачах — написанная в первом лице — рассказ спутника осужденных, свернувшего в сторону наименьшей мягкости и наименьшего сопротивления.
I
В свое время мы родились незаржавленными и молодыми, и жизнь каждого из нас перегоняла медленные стрелки стенных часов, тяжелые удары соборного времени и беспрестанное тиканье почти хронометров Павла Буре[1].
Нас было четверо; и после того дня, когда я впервые увидел женщину прямых линий, гулявшую под руку с Володей Чехом, я думал о любви и рисовал смешное сердце, проткнутое стрелой и выпадающее из собачьей пасти. Это. случилось так.
Лежа в роще, мы отдыхали: перед этим я долго ехал по белому шоссе, пес бежал за задним колесом велосипеда. Мы оба устали: в роще было тихо, белое пятно моей рубашки не шевелилось, красный язык моего друга равномерно трясся на зубах. С шоссе изредка слышалось топанье лихача: оно ударялось очень минорно, и уши пса долго оставались поднятыми. В эти годы солнце стояло высоко.
Это происходило незадолго до трагедии, сломавшей крепкую четвероногую жизнь моего друга и бросившей меня далеко от моего города и загородных рощ. Я был старше пса на десять лет. Я принес его домой слепым щенком и выкормил его: я никому не позволял его бить, он вырос, не зная человеческих ударов. Мы жили вместе, он спал у дверей моей комнаты. Во многом у нас были одинаковые взгляды: мы оба никогда не трогали нищих: я — потому что им не завидовал, он — из высокомерия.
В то лето я читал «Paroles d'un revolte»; пес лежал на ковре и о чем-то думал. Мне казалось, что его мысль была всегда о движении, статического быта он не признавал. Я разговаривал с ним: он слушал, наклоняя голову, вскакивал, подходил ближе и успокаивался. Может быть, он хотел сказать, что когда-нибудь будет знать столько же цитат, сколько и я.
— Жить, брат, все-таки можно, — сказал я, — только не надо умирать.
Мы лежали на траве: топот последнего лихача замолк с полчаса назад. Вдруг послышались шаги. Мой друг зарычал и вскочил. Я приподнялся на локте. Из-за деревьев вышла женщина прямых линий и за ней карманщик Володя Чех.
Женщина шла, не сгибая ног, гордо и резко выставив острые прямые груди. Я не видел до этого таких прямых, — и не знал, что в жизни есть своя геометрия, не уложившаяся в теоремы о сумме углов[2]. И моя встреча с женщиной прямых линий была первым уроком ежедневной математики, науки о положительных и отрицательных величинах, о форме женской груди, о тупых углах компромиссов, об острых углах ненависти и убийства. Володю Чеха я знал случайно: он был крив на левый глаз и обладал страшной силой пальцев. Я посмотрел на него: женщина остановилась: пес вздрагивал и рычал. Я остался лежать. И я сказал Володе:
— Да ведь она, голубчик, не гнется. Володя промолчал.
— Ты бы познакомил?
Слово было за женщиной прямых линий; она осмотрела меня, моего друга, велосипед.
— Не надо нам таких знакомств.
— До свиданья, тетенька. Володя пробурчал:
— В двенадцать апостолов!
Нога женщины сделала шаг, опустилась, не согнувшись. Это было движение прямых и стремительных линий. Володя пошел вслед за ней.
Возвращаясь в город, мы их обогнали: Володя закричал что-то, женщина повернула голову — быстро и презрительно.
* * *
Раз днем мы пошли на базар к букинисту, тихому старику в ермолке: он сидел обычно, окруженный книгами, и читал трудные древние тексты. Он одевался в черное: глядя на него, я думал о библейских старцах и об удивительном народе пророков, мудрецов и коммерсантов, донесших свою огненную и суровую мысль до шумных рынков революционной России.