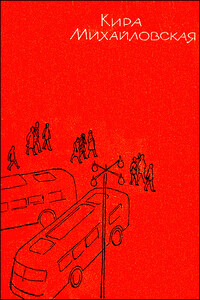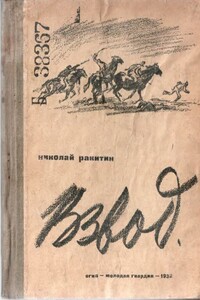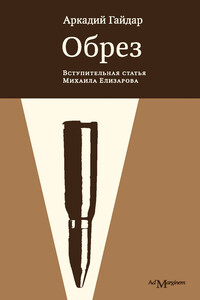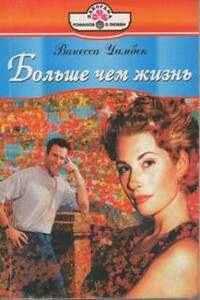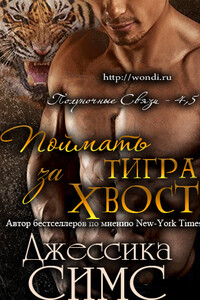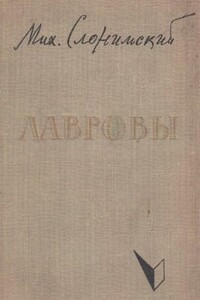1
Приказ главнокомандующего баварской Красной армией Рудольфа Эгльгофера непонятен и неожидан, но революционная дисциплина обязывала к подчинению. Странно все-таки, что не далее как сегодня утром батальоны оповещены были о предстоящем наступлении. Армия ответила восторженной готовностью. Казалось, победа ждет красноармейцев, как при Аллахе и Карльсфельде. И вот вместо атаки — погрузка в эшелоны и возвращение в Мюнхен. Почему? Что такое случилось? Объяснялось это решающим поражением у Штарнберга. Но, кажется, и сами члены штаба ничего толком не знали.
Все устремились в Мюнхен — на поездах, на грузовиках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, верхом и просто на своих ногах.
Чем ближе к Мюнхену, тем явственней чуялось в этом внезапном и поспешном отступлении нечто неладное, и паника уже овладевала отдельными людьми и отрядами.
На мосту через Изар, в давке, в тесноте плеч, рук, бедер, в суетливой толчее пробивающихся тел, родился все перекрывающий крик:
— Отрезали! Окружили!
Взлетела над головами чья-то винтовка и, взметнувшись через перила, с плеском упала в реку. За ней полетела другая, третья... Вмиг все сбилось и смешалось в криках и свалке. Еще только утром уверенные в победе люди теперь, бросая все мешающее свободе движений, ожесточенно продирались к берегу.
Батальоны, теряя по пути целые группы солдат, прошагали к Луитпольдской гимназии. Никто из солдат не понимал ни смысла отступления, ни негодования мюнхенцев, бранью встречавших отступающие войска. Только одно было известно солдатам — они выполняют приказ главнокомандующего, переданный по телефону из Мюнхена. Но не подложный ли это приказ? И уже рождалось и росло такое ощущение, словно командир, выбравший путь, ведет неправильно, ведет непосредственно в разгром и смерть. Это случалось подчас на войне — люди тогда начинали ступать не в ногу, расстраивать ряды, отбегать в сторону, сразу же находилось много желающих командовать, каждый указывал свое направление, и дисциплинированный отряд, распадаясь, превращался в паническую толпу. Такое возникало и сейчас, но не в большом отряде, а в целой армии.
Осмелели таившиеся до того враги. Далеко не все они оказались обезоруженными. На улицах появились отряды штатских в котелках и шляпах, с белыми повязками повыше локтя. Враг, откинув страх, переходил в наступление. С ружьями и револьверами бюргеры нападали на отдельные группы красных. И все тесней и тесней смыкалось кольцо белых армий вокруг Мюнхена.
Зеленью садов и парков дышит южный немецкий город. Просторы полей и лесов чуются за нагромождением его домов, дворцов, музеев, церквей и соборов. Воздух ближних и дальних гор бодрит тело и дух. Великолепна жизнь! Но старый, опытный враг уже отбирал все для себя.
Расстрел заложников обозначил последние часы советской республики. Десять человек, изобличенных в заговоре против революции, среди них одна женщина — графиня Вестарп, были выведены во двор Луитпольдской гимназии и легли трупами у серого камня стены, потому что революция в Баварии не могла щадить пойманных врагов.
Неизбежность поражения врывалась в настежь распахнутые окна звоном и грохотом потрясающих Мюнхен боев. Неотвратимость катастрофы преследовала Евгения Левинэ, мотая его по комнате, ни секунды не давая покоя измученному мозгу. Там, за окнами, на улицах и площадях, боролись и гибли те, кого он вел к победам. Он был их вождем, но беспощадное решение партии запретило ему быть с ними в страшные часы разгрома: военному руководству — оставаться на посту, политическому руководству — скрыться, бежать! Потому что спасение политических руководителей — вопрос не личного благополучия, а революционной целесообразности.
Евгений Левинэ кружил по комнате, как по тюремной камере, и стремительная тень его, ломаясь, металась по чужим стенам, то дорастая до потолка, то опускаясь почти до полу, но всегда неизменно поспевая за каждым движением длинной его фигуры.
За окнами, по Мюнхену, по всей стране, вновь утверждался с детства ненавистный порядок. Это был порядок, знакомый до дна, так знакомый, что можно было распознать его в каждом возбужденном голосе, летящем в комнату с торжествующей улицы, в каждом скрипе, Ев каждом звуке, в самом, казалось, запахе весны, несущей отчаяние и смерть.
Воздух был отравлен. Мир вновь становился тюрьмой, застенком, гробом. Крышка захлопнулась. Вбивались последние гвозди германским рейхсвером, вюртембергским корпусом, баварскими войсками, добровольческими отрядами. Броневики, лязгая и грохоча по Мюнхену, решали победу. Будущее, в которое уже вплыла Россия, брошено здесь в могилу, похоронено, зарыто.
В Берлине Левинэ остался жив случайно. Вместе со своими друзьями-спартаковцами он работал дни и ночи в здании «Красного форвертса», сменяя перо на винтовку и винтовку на перо. Отправленный по неотложным делам, он покинул помещение редакции, и в его отсутствие ненависть белогвардейцев, захвативших здание, уже успела растоптать, расстрелять его друзей, — Левинэ опоздал разделить их участь. Это было в январе. Сейчас, в эти предмайские дни Мюнхена, он опять отторгнут от гибнущих в неравной борьбе товарищей, но на этот раз не случайно: