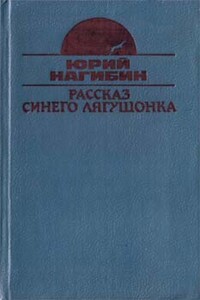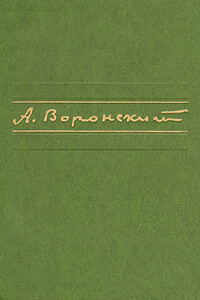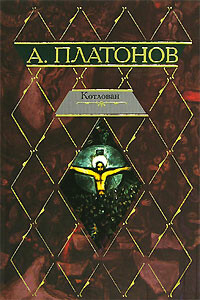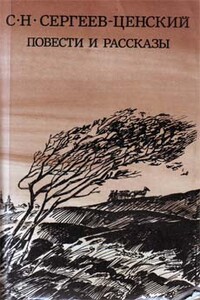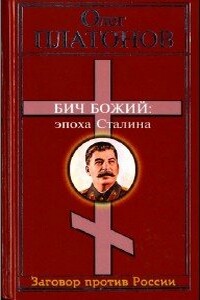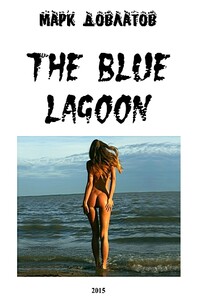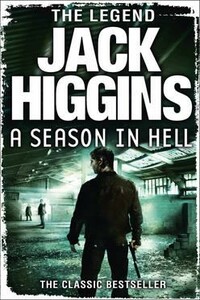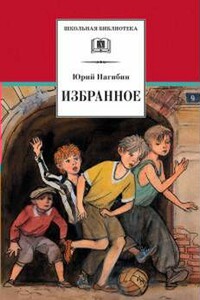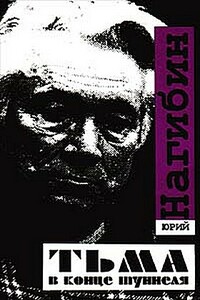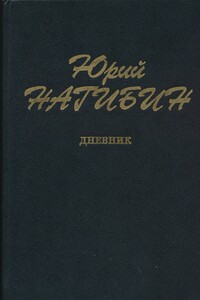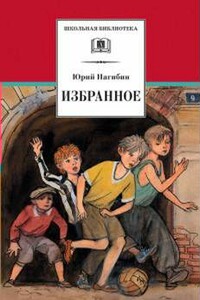Зарисовка с натуры
Мы познакомились в санатории «Яузская заводь» нынешней весной. Этот санаторий когда-то принадлежал За́мковому управлению и был столь же престижен, как Замковая столовая. Замковая больница, Замковая аптека, словом, все Замковое. Но сейчас привилегии отменены: столовая, хотя и осталась закрытой, обслуживает социально незащищенных, больница отошла к обществу «Милосердие», взявшему под свое крыло и аптеку, а санатории широко распахнули двери всем, кому удастся достать туда путевку.
Я уже видел этого человека, подбористого, жильного, с седой всклокоченной бородой, с густо, глиняно загоревшим на первом весеннем солнце лицом и пронзительно светлыми, блестящими, почти без голубизны, хрустальными глазами. В санатории его взволнованно приняли за известного олонецкого сказителя Морошкина, хотя сходство между ними не так велико. Он куда выше, худее и опрятнее. И на вид значительно старше. Поначалу он показался мне глубоким стариком, очевидно, из-за белой как кипень длинной бороды, росшей несколько вкось. Но затем живость, бодрость, подвижность скупого тела поставили его в должный возраст — под шестьдесят.
В нем было что-то сказочное: милая лесная или болотная нежить, а меня всегда влекло к людям не из реальной жизни. К сожалению, с ним трудно было найти точку соприкосновения: он не играл ни в одну санаторную игру, не гулял, не ходил в кино и в свободное от процедур время (он посещал все кабинеты без исключения, а также физкультурный зал и бассейн) гонял как угорелый на велосипеде-недомерке. Но все-таки наше знакомство состоялось — в День Победы, и человек этот навсегда вошел в мою душу.
Когда-то любимый народом праздник отмечался в «Яузской заводи» пиршественными трапезами и толчеей в изобильном буфете. Хлопали пробки шампанского, и растроганные, сдруженные памятью о жестоком испытании люди поднимали тосты за победу, друг за друга. Я езжу в санаторий с самого его открытия в семьдесят шестом году и не помню случая, чтобы кто-нибудь умер с перепоя или хотя бы занемог; да что там — ни одного пьяного не встретить было в этот торжественный день. Картина резко изменилась с введением сухого закона: достать водку, распить в номере неопрятно, пугливо и дерзко, выбросить пустую бутылку из окна на зеленую лужайку, где по утрам играют горностаи, или в полные воды кюветы, где резвятся ондатры, стало делом подвига и геройства. Даже заведомо непьющие, на дух не переносящие спиртного, включались в общую высокую заботу. Тут нет ничего удивительного: насилие, запрет всегда вызывают противодействие, и, пока это есть, человек останется человеком.
Неподалеку от санатория находится город, выросший из большого села и ставший одним из центров подмосковной промышленности. Городские власти тоже ввели сухой закон — водку и страшный просковейский коньяк можно было достать лишь в семи километрах от города, в маленькой лавчонке, схоронившейся в овраге на краю заводского поселка. В самом местоположении лавчонки виделось осуждение позорного греха пьянства, презрение к алкашам, да и вообще ко всем пьющим и выпивающим, ибо неопровержимо доказано, что даже глоток шипучего вина безнадежно разрушает организм, психику, всю личность, делает ее неспособной к решению тех задач, которые мы почему-то должны себе ставить, вместо того чтобы просто жить.
Каждый день, в пять вечера, все мужчины города и немалое число представительниц слабого пола с авоськами, мелодично позванивающими пустой посудой, тянулись к оврагу за живой водой. Если закрыть глаза, то казалось, что идет стадо, позвякивая жестяными колокольчиками. И ведь нелегок людям был этот ежевечерний исход после рабочей смены и возвращение к родному порогу с оттянутыми руками.
Казалось бы, городские власти, видя тщету запретной меры, должны были наладить нормальную продажу спиртного — ничуть не бывало. По какому-то темному счету спивающийся с помощью овражного заведения город считался оазисом трезвости, что приносило немалую честь, славу и всякий гостинец его отцам.
В усталом вечернем стаде двигались, задыхаясь, хватаясь рукой за сердце, поминутно останавливаясь с полуоткрытым по-окуньи ртом и выпученными глазами сердечно-сосудистые нашей образцовой здравницы. Аборигены их, естественно, ненавидели и всячески оскорбляли. Ответить больные не могли, глядишь, вовсе не пустят в овраг, они молчали, и близость гипертонического криза наливала синюшной кровью затылки и лбы.
Больные вынуждены были прятать бутылки по карманам, авоську не пронесешь в палату. Это не позволяло им сделать запас, приходилось, что ни день, таскаться в город при любой погоде. В санаториях и домах отдыха правила известны: первую неделю ты живешь спокойно, а потом начинаются проводы. Ты и познакомиться с человеком толком не сумел, не то что сдружиться, но расставание оформляется на отчаянно-щемящей ноте проводов в армию. Вообще-то проводы не прекращались и в первую твою неделю, просто ты еще считался новобранцем, чужаком, а дальше пошло-поехало. Прекрасный буфет «Яузской заводи» амортизировал эту ужасную традицию: провожали глотком шампанского. Роковое решение оккупационных властей ввести трезвую жизнь на всей принадлежащей им земле нанесло непоправимый ущерб здоровью обитателей «Яузской заводи» еще Замкового подчинения.