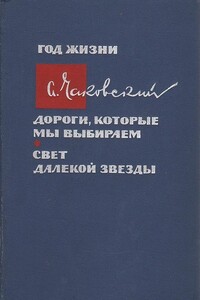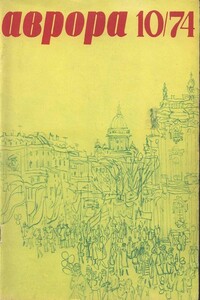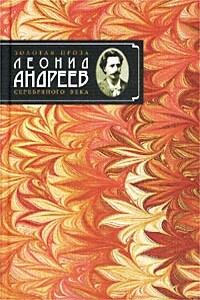Эта книга написана — страшно сказать — в 1976 году, то есть в то время, которое потом назвали «застойным». Можно сказать и по-другому: это было мертво-стабильное время, никаких перемен, никаких даже шевелений в сторону перемен не предвиделось и даже не предчувствовалось.
Конечно, все понимали, что быстро стареющий Брежнев рано или поздно уйдет, но он был окружен такой сплоченной группой соратников (сообщников), что даль не проглядывалась даже на две-три фигуры вперед. Ну, уйдет Брежнев, но ведь рядом с ним Андропов, Черненко, Суслов, Гришин, Громыко, Устинов, Щёлоков… Непробиваемая толща кадров, готовых занять место Генсека и удерживать существующую стабильность, то есть застой. И потом эти взаимные аэродромные чмокания-целования с Живковым, Чаушеску, Кадаром, Гереком… Надеяться было не на что.
А я в начале шестидесятых годов начал прозревать или, точнее сказать, прозрел. Как и почему это получилось — об этом и книга. Прозрение процесс необратимый. В слепых можно ходить хоть сто лет, но, раз увидев, нарочно уже не ослепнешь. Разве что зажмуриваться, да и то от увиденного не уйдешь.
И вот я стал писать книгу о том, как я прозрел, о том, что я увидел и понял.
Тут совпало несколько дополнительных обстоятельств, которые тоже сыграли свою роль.
Анна Ахматова, услышав у Марины Цветаевой в стихах что-то о смерти, воскликнула: «Ты с ума сошла! В стихах все сбывается!» А я как раз написал одно стихотворение. Где-то вычитал, что Страдивари потому делал такие драгоценные скрипки, что брал для этого дерево, в которое ударила молния. Скорее всего — легенда. Но, во всяком случае, легенда красивая. И вот стихотворение у меня заканчивалось:
Вот что дереву нужно, чтоб начало петь,
Редкий жребий,
Чтоб горний огонь снизошел,
Чтобы вдоль по волокнам тугим
До корней прокатилась гроза,
Опалив, закалив,
Словно воина сердце в бою.
.
Я созрел, я готов, я открыто стою.
О, ударьте в меня, небеса!
Ну, вот небеса и бабахнули. В 1973 году, в возрасте сорока девяти лет — операция в онкологическом институте им. Герцена (при желании читайте об этом подробнее в повести «Приговор»).
Врачи думают, что больные ничего не слышат, не знают. А шушуканье за спиной трудно было не слышать: три месяца, от силы — шесть. Потоки метастазы, легочная температура, как бы вялая пневмония — картина известная… Когда же прошел год и пошел второй, я сказал себе: вот, ты хотел, чтобы небеса ударили в тебя, они и ударили. Но более того, они дают тебе дополнительный срок жизни. Зачем? Чтобы ты протирал штаны в ЦДЛ? Нет, тебе дан дополнительный срок, чтобы ты написал свою главную книгу. К 1976 году книга была готова.
Рязанская поэтесса Нина Краснова (она же и профессиональная машинистка) сказала мне однажды: «Все твои повести, это как деревня с ее домами, деревьями, колодцами, амбарами и прудами, а эта рукопись как церковь, венчающая деревенский пейзаж». Пусть будет так. Правда, когда я спросил у Нины Петровны: «А что же в этом случае моя новая повесть „Смех за левым плечом“»? — Краснова не растерялась: «Это крестик на церковке»…
Книга «Последняя ступень» писалась без оглядки по многим причинам, и первая из них та, что было бы смешно даже и помышлять об ее опубликовании в то время. Ну а если написать и спрятать, то какие же могут быть оглядки? Это некоторые с их квартирными «эпопеями» да с карикатурами на русского солдатика «линяли за бугор», а я даже в уме не держал. Где родился, там и пригодился.
Передиктовал рукопись машинистке, размножил до шести-семи экземпляров. Хранились: два экземпляра в Москве в надежных, домах и семьях, один экземпляр в Париже, один в Сан-Франциско, один во Франкфурте-на-Майне, но везде с твердым уговором: без моего ведома из рук не выпускать.
Но время шло. Чувство опасности притуплялось, я стал давить рукопись почитывать то одному человеку, то другому. В общей сложности «тираж» прочтения составил, вероятно, около полусотни. Называть всех, кто прочел, ни к чему, упомяну лишь Леонида Максимовича Леонова, да еще Александра Львовича Казембека, русского дворянина, эмигранта в Париже, основателя партии «Младороссов», в программе которой было соединить Советскую власть (вернее, сталинское единоначалие и государственность) с монархией. Идея кажется смешной, но не настолько уж. Ведь Сталин уже и был самодержцем, и если бы не вывели его из строя 28 февраля 1953 года, народ, возможно, провозгласил бы его даже императором.
Так вот, реакция этих двух людей. Леонов: «Вообще ходит человек по Москве с водородной бомбой в портфеле и делает вид, что там у него бутылка коньяку».
Александр Львович, после войны возвратившийся из парижской эмиграции в Москву, оказался одним из первых читателей рукописи. Помню, я сидел в кресле в его комнате, а он ходил мимо меня своими мелкими шажками, ходил не целый ли вечер, никак не решаясь на вынесение приговора. Потом остановился на секунду: «Во-первых, это — блистательно, во-вторых, по-русски — доблестно!..» И тотчас вышел из комнаты. Завышенную восторженность оценки (а она была еще выше, чем изображено здесь) надо отнести за тот счет, что Казембек всю жизнь прожил с этими идеями, но высказать их (по крайней мере, в такой форме и в таком объеме) не высказал.