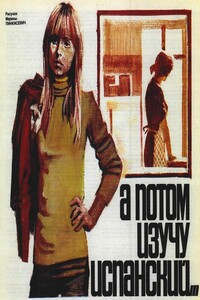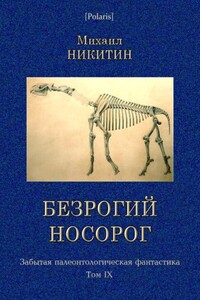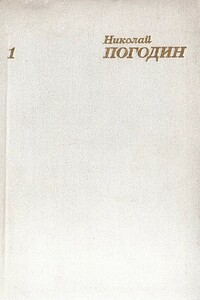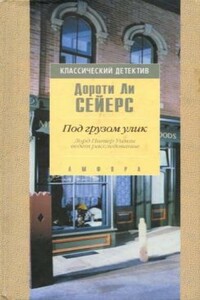Шмарье Кропивник, босой, но в теплых ватных штанах, лежит на зеленом кованом сундуке, стоящем под маленьким заиндевевшим оконцем. Над степью, над хутором яростно завывает метель, засыпая снегом дверь и подслеповатые окна низенькой землянки.
Шмарье закинул обе руки за голову, потянулся, чувствуя, как по всему телу разливается приятное тепло.
Через разрисованные морозом, облепленные снегом стекла он не видит, что делается снаружи, и только прислушивается к волчьему завыванию ветра.
— И метет, и метет… — бормочет старуха мать, сидя на низенькой скамеечке перед раскаленной печью.
Шмарье лениво поворачивается на бок и с довольным видом оглядывает свое жилище.
Возле печки свалена золотистая пшеничная солома, от которой тянет пряным сухим духом, сдобренным острым запахом чабреца.
Старуха мать сует солому в печь, и сразу же на противоположной стене вспыхивают розоватые отблески. Всякий раз, когда на землянку с особой силой обрушивается ветер, огоньки на стене становятся багровыми. Извиваясь в вихревом танце, трещит солома, устремляясь вместе с дымом в трубу, в погоне за ветром.
— Ну и вьюга, — продолжает ворчать мать. — Так и крутит… а ее все нет. Уйдет и забудет, что надо домой возвращаться.
— Не твое дело, — с досадой произносит Шмарье. — Чтоб я этих разговоров больше не слышал! Я тут хозяин! Я… Сам…
— Ша! — Старуха машет в его сторону желтой костлявой рукой. — Сам!.. Сам и жену взял в рваной юбке, да еще привел с чужого хутора. Что она за хозяйка? Печь не может растопить! Я должна топить? Не станет меня, хлебнешь горюшка — все, какое ни есть хозяйство, растрынькает.
— Опять ворчишь! — Шмарье рывком садится на сундуке. — Это моя жена! Моя! И на мою жену чтоб не смела… — Он умолкает, словно захлебнувшись. Знает старая, чем досадить! Его самого уже тревожит, куда жена запропастилась. Долго ли сбегать к соседям за мельничкой для кукурузы. А вот пошла и пропала, словно завирюхой замело. Хоть беги ищи ее. Но Шмарье скрывает раздражение. Не хочет, чтобы мать заметила, что он злится на свою жену. Это никого не касается.
Чтобы немного успокоиться, Шмарье переводит взгляд на заветный угол от стены к стене, огороженный Досками. Там ссыпана чистая отборная пшеница — урожай этого года. Сверху она прикрыта пестрым рядном и старым черным кожухом. Шмарье не удержался, осторожно перелез через доски, растянулся животом вниз на теплом мягком кожухе и запустил тяжелые натруженные Руки в прохладное, упругое зерно.
Он чувствует, как умиротворенной радостью наполняется все его существо. Эту пшеницу, что лежит под ним, в чистом, сухом углу, он собрал со своей землицы. Сам весной сеял, сам жал, сам молотил. Его руками она выращена, его потом полита. Вот и любо ему вытянуться всем телом на ней, вдыхая знакомый запах. Вся его жизнь здесь, в этом хлебе. Чего ему не хватает? Все есть. На всю зиму обеспечил пшеничкой он и себя и жену. И для матери хватит. Для лошадей заготовил овес, для коровы — сено и отруби…
— Зачем мне их колхоз, если мне так хорошо одному?.. — И Шмарье с удовольствием почесывает свою волосатую грудь. — Не хочу гнуть спину на соседа, на чужого дядю. Мне нужно мое, только мое…
Шмарье укрыл босые ноги кожухом, прислушался к все усиливающейся вьюге и вспомнил, что сосед Хоне-Лейб повез колхозное зерно в Гуляйполе на мельницу. В пути его, должно быть, захватила вьюга, и, наверное, он сбился с дороги, блуждает…
Старуха опять ворчит, но ее заглушает завывание метели. В трубе жалостно стонет ветер, и Шмарье до самой шеи укрывается кожухом. Вот сейчас совсем хорошо. Вокруг приятная полутьма, только на противоположной стене играет мягкий отблеск огня от раскаленной печи. Зачем ему сейчас свет?!
«А Хоне-Лейб где-то блуждает в снегах, — думает Шмарье, — блуждает один в холодной, темной степи. Завирюха заметает дорогу, заметает следы. Колючий снег слепит глаза, режет лицо. Кричи не кричи, разве кто услышит…»
Шмарье даже кажется, что ветер откуда-то доносит чей-то протяжный стон, и от этого становится еще приятнее, еще лучше.
Как хорошо иметь свою собственную землянку, старательно обмазанную, надежно укрытую камышом, натопленную печь, лежать па собственной пшенице, знать, что сани твои стоят па гумне, сбруя висит против тебя тут же на стене, а кони твои отдыхают в теплом стойле и пахнет там сеном и свежим конским навозом… В погребе припасены две бочки квашеных кавунов, кадушки огурцов и помидоров. А в углу под лестницей закопана в песок отборная морковь и круглые темно-красные бурячки. Там же, огороженная досками, хорошо укрытая соломой, хранится картошка. С каким бы удовольствием он сейчас, если б не метель, спустился в погреб, чтобы оглядеть свое добро. Он никогда не испытывал такого удовольствия от самой еды, какое получал, любуясь по-хозяйски тем, что припас на будущее.
— Что же ты лежишь? — обернувшись к нему, недовольно ворчит старуха. — Ты же сказал, что пойдешь… Иди! Посмотри, куда она пропала. Лежит, плесневеет…
Шмарье недовольно засопел. Старуха так не вовремя прервала его приятные мысли. Зло отбросил полу кожуха и сел. Разозлился и на старуху, и еще больше на молодую жену Зисл. Наверное, она завернула к ним, в колхоз. Должно быть, она там. Тянет ее туда. А чего? Разве мало он всего нажил? Чего еще надо?!