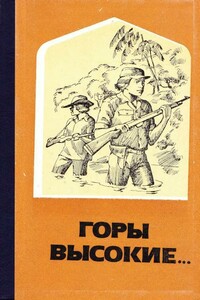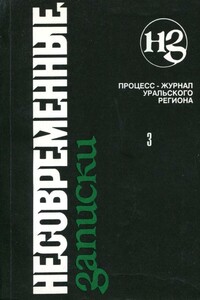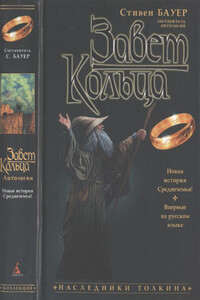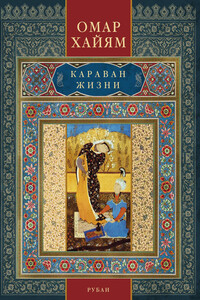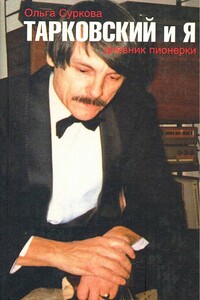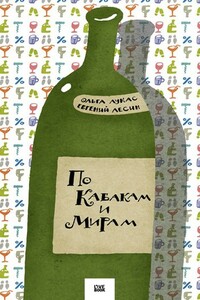Брату моему Виктору и его сверстникам, изведавшим рабства немецкого.
Я — ОСТ 3468. ОСТ потому, что я русский. Мне от роду 14 лет. Во мне страх и глухая тоска. И тяжелая слабость в ногах.
Я тележку качу по проходу меж гудящих прессов. В тележке моей тяжеленной обрубки стальные — листовые отходы работы прессов.
А вокруг меня немцы. За прессами стоят тоже немцы. Это «Фольксваген», завод.
Мамка родненькая, тут Германия самая страшная!
По проходу за мной ходит с палкой хохол-полицай, надзиратель мордастый. Я боюсь его палки! Бьет меня без разбора. Бьет не только меня, но, мне кажется, что меня бьет сильнее и чаще других.
Бьют не только хохлы-надзиратели, но и немцы-охранники бьют.
Бьют за то, что совок к концу дня стал тяжелым и просыпался мусор железный; что, держась за тележку, я стоя уснул на секунду какую-то; что распухшие ноги я долго в колодки вдеваю; что голову поднял, и выпрямил шею, и глянул в глаза полицаю-предателю.
Бьют по самым болючим местам. Иногда просто так палкой врежет и матом покроет, чтобы сон от себя отогнать.
Под одежками-тряпками наши голые кости. И палками бьют по костям… Все по старым болячкам! Для новых болячек на наших костях уже нету места.
Враги вокруг нас день и ночь, день и ночь…
Ждем отбоя, как самую светлую радость. В темноте хорошо пошептаться друг с другом. Помечтать… Вот придет наша Красная Армия — и мы будем ловить полицаев и немцев-охранников! Посмеяться тихонько можно…
Внезапно приходит сон. А во сне мы и стонем, и плачем, и родным своим жалимся, жалимся.
Мамка родненькая! Вечно хочется есть. Есть и спать. И забиться бы в щелочку маленькую, чтоб не видел никто и никто б никогда не нашел.
И мне кажется: я никогда не наемся. И домой никогда не вернусь.
Если б я знал, что ждет меня тут, я б не дался тогда полицаям, что пришли и забрали меня 12 мая 43-го года.
Не вспоминал бы тот день, да он забываться не хочет.
Мы только сели обедать все вместе: Вася, Петя, Шурик и вы с теткой Полькой. А Клаве, как мамкиной дочке, ты борщ отнесла в ее комнату. Только сели — они и явились!
С винтовками двое.
Я твой борщик щавелевый только попробовал, мамка моя! Пару ложек успел отхлебнуть. Тарелка моя почти полная так и осталась стоять. Там и ложка моя. И хлебца кусаник остался.
Теперь кажется мне, что обед недоеденный тот до сих пор меня ждет на столе.
Те полицаи по дороге сказали, что застрелят меня, если я побегу. Лучше б я побежал!
До отправки в Германию нас под охраной держали в здании банка по Коммунистической улице.
Охраняли полицаи, с утра уже пьяные, поэтому нам удалось убежать. Помнишь, как прилетел я домой? Я тогда не один убежал. Со мной были хлопцы из Людкова и с нашей Замишевской улицы. Перед этим побегом нам передали тайком, что в задней стенке уборной, что во дворе у забора, оторваны доски и держатся только на верхних гвоздях.
Когда вывели нас на прогулку во двор, все, кто знал и не струсил, в уборной доски раздвинули — и через забор в огороды. И все, кто удрал — по домам разбежались. Вот дураки.
Нас, как котят, похватали и в банк. И охранять стали немцы уже, а не те полицаи.
А 15 мая во дворе банка построили нас и девчонок и под немецким конвоем погнали на станцию.
По Первомайской погнали, потом по Кузнечной (ныне улица Ломоносова).
На Первомайской, у почты, нашу соседку увидел. Обрадовался! А как настоящее имя ее — я не знал. Только прозвище помнил. И крикнул:
— Говнокопиха! Тетечка! Ради Бога, прости! Я не знаю, как тебя звать!
— Ульяна я, детка моя! Ульяна! Куда ж это гонят вас, родненький? А… Наверно в Германию гонят?..
— Дак в Германию, тетечка! Мамке скажи, что нас гонят уже! Нихай прибегае на станцию!
— Скажу, деточка! Щас же скажу!
И заплакала тетка Ульяна. И побегла скорей на Замишевскую улицу. А мне стало как будто бы легче…
У железнодорожного клуба, когда нас по Кузнечной гнали, к Вальке Высоцкому, что с Харитоновской улицы (ныне ул. Чкалова), собачка домашняя кинулась. Провожать прибежала вместе с сестрами Валькиными — Алкой, Надькой и Людкой.