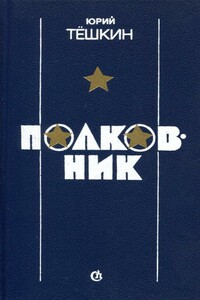С коридором, можно сказать, повезло. Из конца в конец — семьдесят два его шага. Это метров пятьдесят. Он высыпает из коробки, где наклейка — уссурийский тигр, спички на широкий подоконник, накрывает ладонью и размазывает-шевелит, что-то строит, не глядя. Смотрит в окно на крыши. Крыши в инее блестят, дымятся в горизонтальных лучах солнца. Или крыши матовые, в тени, усыпаны листьями, вблизи четкими, словно вырезанными из цветного серебра, а дальше — сливающимися в пятна… Душа, и тело, и мысли его так далеки в эту минуту друг от друга, как, может быть, лишь было до рождения, когда все это, возможно, уже и существовало, но еще не знало друг о друге.
Осторожно оглянулся. Еще пустой коридор, светлое пятно посередине — дежурная медсестра с настольной лампой. Перевел дух. Стал опять цельным куском, со взглядом-точкой, взглядом-фокусом, все прожигающим, немигающим взглядом, змеиным. Берет спичку и несет ее через весь коридор. Кладет на точно такой же подоконник, гладкий и широкий, кофейно-успокаивающего цвета. Идет обратно за новой спичкой.
Словно серьезную работу, зажав в руке тонкую спичку (и губы тоже — в ниточку), со вспухшей через весь лоб жилой — раз, два… раз, два… С застывшей спиной и таким же взглядом — словно в гляделки: кто кого! — непроницаемый, непробиваемый… Раз, два… раз, два… Только в глубоких глазницах, прикрытых сведенными вместе клочкастыми, как у Деда Мороза, но лишь черными бровями, нет-нет да и мелькнет словно бы отблеск, отсвет каких-то далеких пожаров. Когда, позабыв обо всем, засмотришься на огонь…
Когда больница начинала просыпаться, он успевал обычно перенести половину коробка. Чаще звонили телефоны, гремела внизу посуда. Кашляли палаты, и уже показывались их обитатели. Показывались, словно бы призраки собственных ночных кошмаров. Мятые, сгорбленные, неопределенно-полые человеки, жадно вынюхивающие среди скверных больничных запахов свою единственную любовь — Надежду. Теперь тверже шаг, насколько позволяет малиновая дорожка, напоминающая краснощеких хохотушек медсестер…
Человек, стерегущий по утрам предрассветные облака, ну и перепугался же ты, когда началось это…
Жара спала, прохлада успокоила тебя. Лежал поверх одеяла, заложив руки за голову. Белели в уплотняющихся сумерках полоски пижамных брюк, сливались, теряли четкость. Легко дремалось, легко просыпалось. Убаюкивала музыка из парка. А надо б было встать, зажечь свет, разрушить сладкое наваждение, за которым уже предчувствовалось нечто. Но налетят ночные бабочки, будут падать обожженные. Думалось так, и начало мелодии ты пропустил. Да и не предвещала она вначале ничего опасного. Только с правильным интервалом повторялась одна нота. Как будто всё пытались порвать одну струну. Она звенела пронзительно, догорающе. И все казалось — в последний раз. И уж больше ничего не будет. И вот опять… опять…
Сначала появилось слабое ощущение неуютности, ощущение чужих, как перед отъездом дождливым вечером туда, где тебя никто не ждет, и пройдет немало времени, пока обвыкнешь. Потом эта монотонность, с которой повторялся резкий, страстный звук, незаметно, плавно поднялась, словно бы на какой-то пик, где уже чувствовалось невыносимое томление скрюченного в три погибели тела. Поднялась и… покатилась, покатилась вниз, наращивая ком невыносимой боли. Как при японской казни от слабых, но бесконечно падающих в одну и ту же точку капель воды. Ты понимал, что надо просто встать, сбросить, как липкую простыню, эту расслабляющую дремоту. Встать, зажечь свет… Но налетят ночные бабочки, будут падать обожженные. И было сладко думать: пусть поживут еще ночные бабочки, пусть поживут…
Можно, разумеется, встать, окно сперва закрыть, потом уж свет зажечь. Но тогда увидишь ночной парк. Вернее, не парк — переплетение стволов, веток и веточек. Силуэт, кровеносную систему, аорты, артерии, капилляры того, что только днем вновь станет парком. Нет уж, думалось, — подожду. Ты ждал. И ожидание длилось. Так замерло, остановилось все в тебе. Остановилось. Остановилось и продолжало стоять — черным, как силуэт парка — комком в твоем сердце.
И вдруг прорвалось в ярких брызгах света, пены, яростной радости. Но только на миг. На миг свежий ветер всколыхнул тину, сдул зеленую ряску, на мелководье, цвета вчерашнего чая, обнаружил песчаный берег и след босой и детской ноги…
— Точить ножи-ножницы, бритвы править!.. — встряхнуло плавную парашютность сумерек и на миг обмануло нищету. И вновь околдован вечный мальчишка. Медленно-пушистые в фиолетовом воздухе огромные искры от точильного колеса, похожие на хлопья первого снега. Перехватило от счастья на миг дыхание, но круг уже бешено вращался, искры слились в сплошное огненное колесо.
Ты встрепенулся было на высоких подушках, привстал, потянулся к звонку. Пустой полосатый халат взмахнул, салютуя кому-то. И опрокинулся ты навзничь. Тяжелым затылком, как грузилом, — бульк! И накрахмаленный угол наволочки загнулся в полураскрытый горячий рот.
Торжествующе забили барабаны, дурно взвизгнула флейта, орган гремел, и как-то втиснулась меж ними шарманка. Хоралы, гимны, хохот сатиров, вой обезьян и нежный романс «Ах не любил он, нет — не любил он…» — под улюлюканье и щелканье бича неслись, подхваченные гигантским смерчем; рушились и распадались, оставляя пыль и смрад, города и небоскребы, пирамиды и эйфелевы башни. И поколения прошедшие, настоящие и грядущие, как золотистые снопы, валились друг на друга. Бледнела изъеденная молью цивилизация, и сквозь нее уже вставало нечто. Все летело, кувыркаясь и стеная, вопя, взывая к чему-то. Все улетало в тартарары. Так мотоцикл с мотоциклистом на вертикальной стене цирка с заглохшим вдруг мотором медленно, неудержимо срывается вниз… И вот закручено уже все в штопор, в гигантскую воронку, в утильсырье — на переделку. Превратилось все в бешеный пропеллер, взревело, сорвалось, звук поднимая до тишины. Когда реальность, совсем как детская хлопушка, тихонько — хлоп! И пополам. И половинки не хотят соединяться. Меж ними вата, пустота, вода иль белый сахар — что хотите. Из той — чужой уже половины — пропущенный сквозь воду-вату голос дежурного врача. Вспотевший, настойчиво пробирается к тебе.