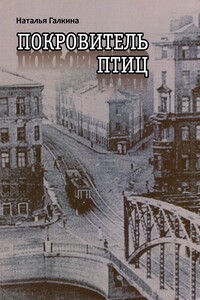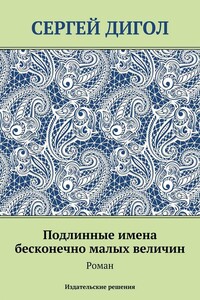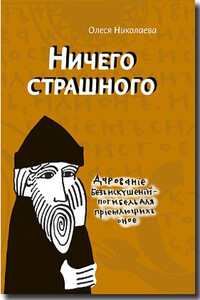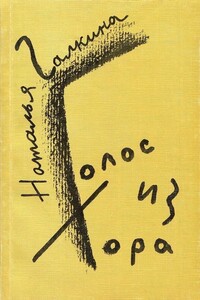Назвав персонажей так, как они звались в действительности, я рисковал угодить под суд за клевету.
Хорхе Луис Борхес,
Адольфо Бьой Касарес
Подхожу к пивному ларьку, встаю в очередь, и вся очередь возмущается:
— Этот тип не слышал грандиозную чакону Баха! Не давать ему пива!
Геннадий Алексеев
Литературовед Б., свернув с Крюкова канала, где традиционно размышлял он о Настеньке и Макаре Девушкине, словно бы чувствовал себя вправе предаться собственным размышлениям. Хоть он и был одним из столпов советского литературоведения, обязанным придерживаться образа-маски благонадежного мудрого человека из народа и т. п., позволял он себе иногда почитывать еретиков, даже увлекался ими и подпускал то одну, то другую цитату, скрыто ли, открыто ли, тайно ли в свои тексты. Вот и сейчас, идучи с улицы Декабристов в Польский сад, размышлял он о сакральном и профанном пространствах. И когда довелось ему в первый раз споткнуться, подумалось ему: а нет ли пространства бинарного, амбивалентного, сакрального и профанного одновременно? Споткнувшись через несколько шагов вторично, нашел он и ответ: пивной ларек, каковой стоял пред ним, подобно избушке Яги из чащоб городских, за углом, находясь единовременно на Никольском переулке и Большой Подьяческой, в двух шагах от Фонтанки.
Едва вышел литературовед Б. к ларьку, как начало округу заволакивать туманом. Что было не редкость в этих местах, где между Фонтанкою и Невою протекали Екатерининский канал с Мойкою, неподалеку сторожил Новую Голландию канал Адмиралтейский; о Крюковом речь шла выше. Собственно, и в петле Невы возле Смольного собиралось белое марево, скрывающее Смольный собор то до середины, то целиком; но тут являлось оно эффектнее, что ли, — местные жители, особливо обитатели верхних этажей, художнических, в частности, мансард, страх и трепет ощущали, сунувшись к окну, где еще вчера, позавчера, всегда прежде наблюдали купол Исаакия, — а сейчас, сей секунд, нет его, пусто, бело. Вид исчезающих соборов, храмов, церквей, часовен был советскому оку привычен с довоенной поры, когда крушили их и взрывали почем зря, стало быть, и ужас исчезновений привычен: вот она была и нету, как цитировали все, начиная со школьников, некую максиму то ли из детской радиопередачи, то ли из клоунских уст конферансье.
Литературовед продвигался по развеществляющейся округе, прядая ушами, приговаривая сквозь зубы: «Заблуждался, заблуждался…» — втягивая трепещущими ноздрями воздух, словно заблуждение классика, вбредая в чахоточный морок. Помыслил он, что фамилия Мармеладов — одна из искусственных бурсацких фамилий (как и его собственная) с флером красоты. Иногда ноты невиданной смелости возникали в его рассуждениях о Федоре Михайловиче, он мысленно вымарывал их, не записывая, как абзац о том, что ежели княгиня Мышкина еще представима, княжна полный нонсенс.
Тут как раз подумалось ему, что Пешков в бурсе стал бы не Горьким, а Амандовым, что всю стилистику прозы поменяло бы кардинально. И по неписаному закону рифмовки решил он незамедлительно: ежели бы не слог «гросс», то есть «толстый», в фамилии Гроссман, не смущал бы советского прозаика граф Лев Николаевич, писал бы прозаик лучше или бросил творить вовсе.
— Когда читаю я его книгу, — мельком окинув взором ларек, отрифмовал вынырнувший из тумана Клюзнер вынырнувшему с ним Бихтеру, — я всё диву даюсь: как это жена Заболоцкого умудрилась втюриться в Гроссмана?
Литературовед, знакомый с обоими собеседниками шапочно, некогда размышлял, еврейская у Бихтера фамилия или немецкая; Клюзнер точно был еврей, почему же он так напоминал русопятого бурлака? Знай литературовед место рождения Клюзнера, он теоретически мог бы догадаться: всё из-за Астрахани, где няни спокон веку подучивают младенчиков словечкам несуществующего, устным преданием хранимого хазарского словаря с его вписанными на полях татарскими слоганами да сербскими загадками и присловьями: «Тица шаргизда све село нагизда, а себе не може» (сие означало «игла», но не Адмиралтейская); или: «Гураво прасе свое полое опасе» (отгадка «серп», но не гербовый). Человек непонятно почему русифицировался необратимо. Впрочем, о хазарах к моменту выхода из тумана к ларьку известно было только то, что они неразумные.
По логике вещей, усмехнулся литературовед, должны были бы материализоваться незамедлительно персонажи дурацких студенческих шуток, Пушкинзон, Лермонтович и Гогельман, но трио, вынесенное белою мглою из Никольского переулка даже с большой натяжкою за таковых бы не сошло. Завсегдатаи и случайные лица, вооруженные кружками (счастливые большими, несчастливые и случайные малыми, адепты присловья «пиво без водки — деньги на ветер» потаенными) уже роились вокруг ларька, когда из затуманенного Никольского явилась троица с кроватной сеткою: двое носильщиков, Толик с Абгаркою, и предводитель-карлик. Карлик сложил быстрехонько четыре пустых ящика, тару, на нее водрузили кроватную сетку в железной раме и карлик, картинно поведя рукою, произнес:
— Вот вам софа, раскиньтесь на покой!
И для иллюстрации нарочито прилег на основополагающую деталь казенной больнично-тюремно-казарменно-общежитейской кровати сам.