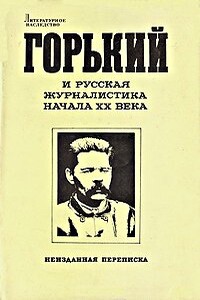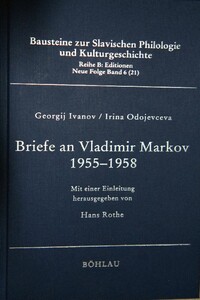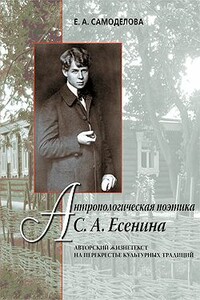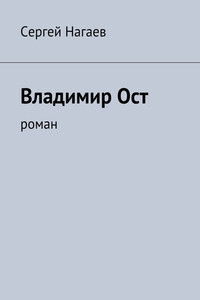Вглубь стихотворения
Владимир Набоков
«Комната». «На перевод ‘Евгения Онегина’»
Поэзия непереводима
Чтобы сказать это, не обязательно
быть Набоковым. Впрочем, он это тоже сказал. Переводя стихи, приходится, по
словам Набокова, «выбирать между рифмой и разумом». И все же стихи переводят и
переводить будут. Почему, зачем? Недоуменье взяло. Ну, прежде всего, затем что
хочется. И не только переводчику, читателю тоже. Обидно же раз за разом
слышать: «Ах, Джон Донн! Ах, Басё!» – и в глаза ни того, ни другого ни разу не
увидать. Можно, конечно, засесть за изучение английского (японского, польского,
немецкого) языка. Да все как-то недосуг. Со своим бы управиться. Вот и читаешь
переводы.
Это что касается потребностей
читателя. А что требуется от переводчика? Задача его, как я себе представляю, в
том, чтобы по возможности точнее, «ближе к тексту», передать звучание и мысль,
«рифму и разум» (ну, и ритмическое построение тоже, но это не самое сложное).
Передать и то, и другое в безупречной полноте по понятным причинам невозможно.
Случаются, конечно, удачи, но они редки. Один из лучших известных мне примеров
дан самим Набоковым в последних строках его английской поэмы «An Evening of Russian Poetry» («Вечер русской поэзии»):
«Bessonnitza, tvoy vzor oonil i strashen;
lubov moya, otstoopnika prostee.
(Insomnia, your stare is dull and ashen,
my love, forgive me this apostasy.)»
Впрочем, это, боюсь, нельзя по чистой совести причислить к
переводам как таковым – тут все, скорее, было продумано заранее.
В итоге переводчику приходится
сочинять нечто компромиссное.
Совсем уходить куда-то далеко от
звучания и ритма – перед собой стыдно, да и перед отечественным читателем тоже,
ведь он, как ни крути, еще со времен Жуковского, если не с более ранних,
приучен к рифмованным переводам рифмованных стихов и навряд ли в обозримом
будущем согласится с Набоковым в том, что «единственная цель и оправдание
перевода – дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь
буквальный перевод, причем с комментарием».
Уходить же совсем от смысла стыдно
перед любимым автором – любимым, потому что без любви ничего хоть
сколько-нибудь путного не родишь – и, опять же, перед собой. Есть еще третий
путь, коим и Пушкин хаживал – сочинить, сохраняя дух переводимого произведения,
нечто свое. Но это уже другая история. В этой публикации им пошел Григорий
Кружков, который как переводчик стихов ни в каких рекомендациях давно уже не
нуждается,
Что получается в итоге? Если не
«скончавшийся под пыткой автор», то «обманутый читатель» – обманутый в той или
иной мере. И каков же выход, если он вообще существует? Да вот именно тот,
который предлагает эта публикация. Свод переводов. Каждый из которых дает
что-то свое – и по части музыки, и по части смысла. Все вместе они образуют то,
что какая-то из филологических наук именует «логическим полем» переводимого
сочинения. А дальше уж пусть читатель разбирается, кто прав, кто виноват.
Собственно говоря, идея, лежащая в
основе того, что предпринимает теперь «Иностранная литература», не нова. Еще в
1994 году (есть, возможно, примеры и более ранние, но мне они не известны)
издательство «Интербук» выпустило книжку «Гамлет в русских переводах XIX – XX веков», которая, так и
оставшись невостребованной, и поныне встречается мне на полках книжных
магазинов. А в 1998-м сразу два питерских издательства «Терция» и «Кристалл»
издали совместно свод переводов «Сонетов» Шекспира. Сколько нашли каждого,
столько и напечатали (там, кстати, и два набоковских имеются). Все в этих
книжках хорошо, кроме одного, – оригиналы отсутствуют. Вот этот-то пробел
журнал и восполняет. Сначала и прежде всего оригинал – а уж там и переводы.
О сравнительном качестве переводов
я распространяться не буду, полагая, что читатель сам способен выбрать то, что
ему больше по душе. Я лучше скажу несколько слов о связи тех двух
стихотворений, переводы которых здесь напечатаны, с жизненными и творческими
обстоятельствами их автора, Владимира Набокова.
Комнаты
Тема жилища, пристанища, была для
Набокова, особенно раннего – начиная с «Машеньки» и кончая «Даром» или, быть
может, «Пниным» – одной из главных. Собственно, не столько как Тема, сколько
как краска, постоянный мотив существования. Дом утрачен, заменить его,
возместить утрату невозможно, и тем пристальнее вглядываешься в подставные,
промежуточные обиталища – в камушки, брошенные поперек Леты для удобства
перехода на тот берег. Еще в 1926-м – в год «Машеньки», с которой Набоков
начался, как прозаик, он пишет стихотворение «Комната», ныне соседствующее в
англоязычных библиографиях, а иных, сколько-нибудь полных, пока не существует,
с другим, американским, написанным без малого двадцать пять лет спустя
стихотворением «The Room», которое печатается здесь вместе с переводами оного.
Что касается обиталищ, жизнь в
Америке мало чем отличалась от жизни в Европе. В интервью 1972 года он говорит
о «более чем двухстах мотельных комнатах и арендуемых домах, разбросанных по
сорока шести штатам». Ощущение то ли необходимости постоянного движения, то ли
обреченности на него, которым проникнут «Пнин», видимо, оставалось неизменным и
у Набокова. А в 1964-м, Набоков, человек уже вполне обеспеченный, отвечает
интервьюеру «Плейбоя», спросившему, почему он за более чем двадцать лет не осел
в Америке, не обзавелся жилищем, так: «Главная причина, коренная причина, я думаю,
в том, что никакому окружению, не повторяющему в точности моего детства, было
бы не по силам меня удовлетворить. Найти точное соответствие своим
воспоминаниям мне все равно не удастся – так зачем же бередить себе душу
безнадежными приближениями? Есть еще несколько причин особого рода: фактор
стремительного движения, например, привычка к стремительному движению. Я с
такой силой вылетел из России, с такой жестокой силой возмущения, что так с тех
пор и качусь... Несколько раз я говорил себе: «Вот хорошее место для
постоянного дома» – и немедля слышал грохот обвала, уносящего сотни отдаленных
мест, которые я уничтожил бы самим актом поселения в одном определенном уголке
земли. И наконец, меня не очень интересует мебель – столы, стулья, лампы, ковры
и все прочее – наверное потому, что мое роскошное детство научило меня с
насмешливым неодобрением воспринимать любую слишком рьяную привязанность к
вещественному богатству».