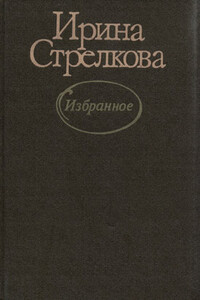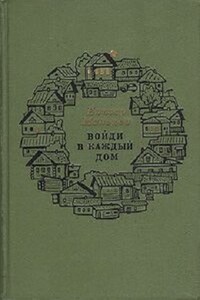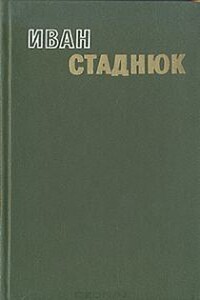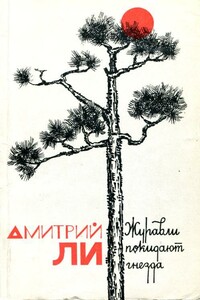Вечер остывал на берегу моря. Навязчиво, грубо и сладко пахли крымские фиалки. Стерильно белели в темноте. Теплой пыльной хвоей тянуло от широкой кривой сосны. Тут бы в самый раз развернуться роману. Но роман застопорился даже в небесах. И месяц свирепо выставил острый подбородок — единственная тучка, легкая, как перо розовой чайки, застряла где-то на пути к нему. Кажется, над черной глыбиной горы. Там огни — их было больше звезд — разгорались, мигали, гасли и возникали, ползли и мчались: желтые, белые, красные, голубые, зеленые. Черт бы их побрал, эти всевозможные огни. Так и тянет к ним одинокую, но гордую душу. Тучка спохватилась, но — поздно. Поняла, посерела. Ветер разметал ее, как дымку, и чистые бестрепетные звезды остались на том месте, где была тучка, которая задумалась, прежде чем, прежде чем… прежде чем — что?..
Татьяна Николаевна решительно встала с шезлонга — не встала, вытолкнула себя. Резко открыла дверь в комнату. Не шаря по стене, сразу нашла выключатель. Зажгла свет. Села у зеркала. Крем, пудра, тушь, тени, помада. Как будто не себя. Ожесточенно, четко. Щеткой больно рвала волосы, и они стали послушными, легли мягкой, пышной, блестящей волной. Накинула на плечи красный вязаный платок с длинными кистями. Всунула ноги в сабо, и дробно застучали деревянные подошвы по каменным ступенькам — вниз. А надо было остаться на высоте. Над невидимым, примолкнувшим морем, над откровенными огнями лихой курортной жизни.
Незачем было спешить. Но себя не переупрямишь И сабо уже стучали по ступенькам не так гулко, звук одиноких шагов уже не нарушал сонную тишину невысоких домов на кривых крутых улочках. Он становился частью прибрежного шума, вливался в него, словно ручей в реку.
Там, как могучий морской прибой, грохотала несокрушимая, бесшабашная музыка. Репродукторы стойко держали ее над овальной площадкой, где электрические автомобили, обгоняя друг друга и сшибаясь резиновыми боками, мчали по кругу па́ры, ошалевшие от скорости, разноцветного света и горячих чувств.
Ряды одноруких грабителей-автоматов работали на всю железку: завывали, звенели, взрывали, свистели, стреляли, вспыхивали тревожным светом, озаряли красным, синим, фиолетовым, зеленым напряженные лица, сдвинутые брови, вытаращенные застывшие глаза, прозрачные от ожидания близкой и возможной победы; на рычагах — тяжелые руки с побелевшими костяшками суставов.
Татьяна Николаевна заметила, что взрослые люди играли в детские игры, но не становились как дети, потому что не забывали себя даже в игре. Слишком торопились. Знали свое время. Свой час. Свой миг. И оставляли время очередям на аттракционы, прогулкам вразвалочку вдоль набережной, Валюше из киоска, небрежно, без энтузиазма наполняющей портвейном таврическим чуть ополоснутые граненые стаканы…
— Соколик, пошел далеко ли? — Какой голос: низкий, прохладный, что ли, не спросила — остановила. Велела остановиться.
Все вокруг обернулись на голос.
Ярко накрашенная немолодая женщина, крупная, в кримпленовом платье с удивительным рисунком, на котором среди зеленых широких пальмовых листьев порхали и гнездились не то колибри размерам с орла, не то орлы, раскрашенные, как колибри, — эта женщина стояла с незаметной рядом с ней подругой и круглыми блестящими глазами смотрела на тихого мужичка, застигнутого с бутылкой в руках, ласково завернутой в вечернюю газету. И одним своим взглядом не отпускала его с того места, где остановила, поинтересовалась: «Соколик, пошел далеко ли?»
Какое дело было Татьяне Николаевне до них, до всех людей вокруг — она просто оглянулась на чудно́й голос, а увидела Игоря Петровича. Ведь уже прошла мимо него, не заметила среди толпы у автоматов; он же провел по всем правилам самолет, миновал, прошмыгнул, обошел, облетел все препятствия, и перед самой посадкой какая-то баба странным дурным голосом: «Соколик, пошел далеко ли?» Оглянулся. Увидел Татьяну.
Надо было сразу назад, к автомату. А он заморгал, больно прикусил губу, опустил голову, но тут же снова посмотрел туда, где увидел Таню. Она не ушла. Между головами, плечами, шляпами, ушами медлительных, неторопливых, основательных в своем движении людей они смотрели в глаза друг другу и уже почти все знали — на все три главы вперед, кроме, конечно, того варианта эпилога, который они, возможно, прочтут, если где-нибудь напечатают этот незначительный роман скромного объема и еще более скромного замысла.
— Игорё-о-ок! Что с тобой? — заботливо дернула его за рукав жена. Он спохватился, потянул не те рычаги, самолет врезался в землю, взорвался; красный холодный свет залил лицо Игоря Петровича. Очередник добродушно оттолкнул его, взял управление рычагами в свои руки. Игорь Петрович снова посмотрел туда, где осталась Таня.
В это время музыка над площадкой с автомобилями смолкла — на автомобилях менялись пассажиры, — и в этой нечаянной, на короткий миг, тишине стало слышно, как совсем рядом глубоко, по-человечески вздохнуло большое море.
То самое, которое утром так некстати, как оказалось, забурлило, взбунтовалось, расплескалось на пять-шесть баллов.