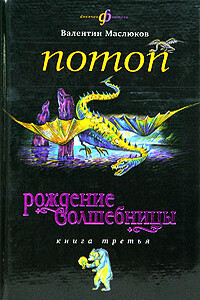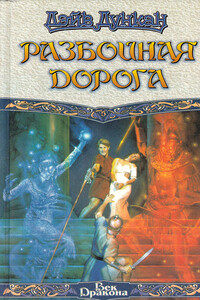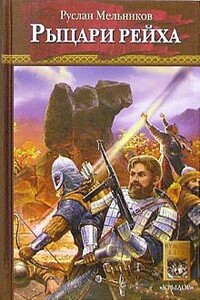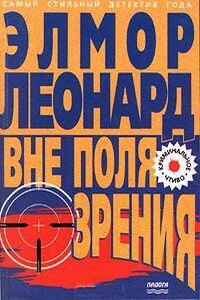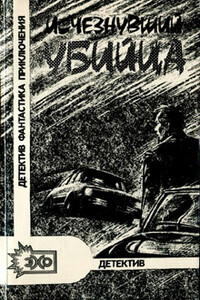Валентин Маслюков
ПОБЕГ
Рождение волшебницы - 4
Если это не была просто трусость, запоздалый испуг, то тогда совесть. Все же такое случилось с Зимкой первый раз. Первый раз в жизни она украла чужое естество — так резко, внезапно, чтобы не сказать грубо, сменила свое обличье и вместе с ним судьбу. Чутье подсказывало Зимке, что нужно задержать дыхание и замереть.
Устроившись на телеге среди узлов с золотом, которое поместили сюда по приказу Юлия так же, как и саму Зимку (звали ее теперь Золотинкой), она молча куталась в чужой плащ, скрывая чужие ноги, — в ссадинах, синяках и обожженные. Невозможно было в толк взять, где, как, под каким солнцем прежняя обладательница этих бедер и голеней умудрилась так бездарно, так жалко обгореть. И какая надобность заставила ее обкромсать платье, отрезав подол? Не последняя и не самая трудная загадка из тех, что подстерегали Зимку в ее новом-чужом обличье. Зимка болезненно морщилась, не находя удобного положения для чужого тела — все ныло, тянуло, шелушилось, горели обожженные ладони.
Телега скрипела и содрогалась на ухабах скверной горной дороги, что все падала и падала вниз, прижимаясь к лесистым склонам. За всяким поворотом открывались новые дали и конца этому не предвиделось, спереди и сзади глазу открывались вереницы ободранных, возбужденных людей. Потерявшие свои полки ратники; потные, измученные вельможи, что волоклись в общей куче пешком; обезумевшие женщины; неведомо чьи дети с голодными блестящими глазами — толпа. За недостатком лошадей, побитых градом в Каменце, награбленное имущество навьючили на себя. Но и плеч не хватало: брошенные утварь, посуда, ткани, одежда отмечали путь войска на десятки верст — от горных круч до лесных дебрей долины. По обочинам дороги, на дне ущелий можно было увидеть красного дерева стул с позолотой, отделанную серебром сбрую, большой медный таз, распотрошенный ларец, какую-то треногу и вовсе не поддающиеся опознанию предметы.
Погубленное зря богатство не волновало Зимку, и это само по себе уже наводило на размышления. Неестественное безразличие к брошенной под ноги парче, к грубо разломанному ларцу из слоновой кости можно было объяснить полученными от Золотинки свойствами. Неужто вместе с обличьем Зимка усвоила нечто и от душевного склада своей колобжегской подруги, нечто от ее дурной простоватости?
Сердце было у Зимки, во всяком случае, чужое, и оно сильно билось, когда подходил Юлий, неловко брался за грядку телеги. Казалось, он почитал это за труд — подойти и взяться за грядку, потому заранее уже хмурился, сводил суровые брови. Распушенные ветром волосы его лохматились, небольшие страстной складки губы упрямились. И что-то тогда в Зимкином… Золотинкином сердце… что-то там неясно уж в чьем сердечке происходило неладное.
Зимка помалкивала, молчал и Юлий. Он шагал обок с телегой и время от времени с заметным принуждением, словно бы через силу, вскидывал глаза, чтобы глянуть. Зимка знала, что это значит. Оттого и сама терялась, не испытывая ни малейшего побуждения рассмеяться воздыхателю в лицо или свойски хлопнуть его по макушке, — то есть прибегнуть к одному из тех испытанных в любовных сражениях средств, которые обычно возвращали Зимке самообладание и радостную уверенность. Напротив, она испытывала нечто совсем иное, незнакомое: стеснение в груди почти удушливое.
Но их нельзя было уличить, ни Юлия, ни Золотинку. Просто Юлий шагал рядом… потом, не попрощавшись, не обронив ни слова, спешил вперед, чтобы догнать повозку жены, великой государыни Нуты. Зимка-Золотинка снова куталась в плащ и молчала.
И, надо сказать, благородная сдержанность выгодно отличала ее от Нуты. Великая государыня, девочка-жена, пребывала в беспрестанном лихорадочном возбуждении. Она болтала без умолку, разбавляя чудовищную смесь слованского с мессалонским коротенькими к месту и не к месту смешками. Она помахивала тоненькой ручкой и кричала нечто приветственное, до боли в сердце бодрое, когда замечала, что муж ее опять возле Золотинки, кричала за тридцать шагов, отчего слованский ее язык не становился вразумительней. Юлий же и не пытался понять, только улыбался с готовностью. Тоже — за тридцать шагов.
Бедная девочка-жена! Великая государыня. Она не смела даже ревновать. Ведь не всякий день кто-то спасает ей мужа! Да еще таким разудалым образом, как эта… как эта волшебница спасла Юлия. А ведь о подвиге знало все войско. И даже Зимка догадывалась, чутко прислушиваясь к разговорам. Она достаточно хорошо представляла себе, как именно, каким таким лихим, беззастенчивым приемом она спасла Юлия и возвратила ему сверх того дар речи.
Во тьме неведомого Зимке прошлого проступали подробности, а она молчала. Ушел, наконец, отвязался, оставив свои бестолковые намеки, голубой медведь Поглум. Огромный забрызганный буро-зеленой тиной зверь, который заставлял толпу расступаться, тащил из разоренной крепости завернутую в ковер девушку с печальным взором. И вот ушел. Укутал свою добычу, прихватил лапой и полез в гору. Запрокинув головы, люди стали по всей дороге, медведь неспешно поднимался, цепляясь когтями за малейшие неровности скалы. И безучастно, разметав гриву, глядела из-за мохнатого плеча никому не ведомая девица. На жуткой уже высоте, когда у затаивших дыхание зрителей от напряжения начинали слезиться глаза, она выпростала руки и принялась коротко взмахивать ими в воздухе, будто что-то выщипывая.