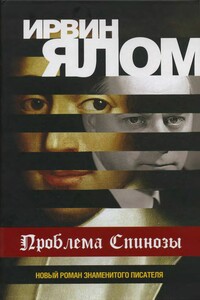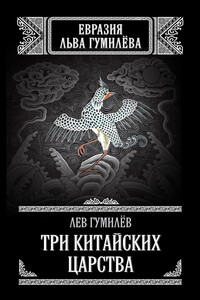Повесть
Желтый, почти прозрачный березовый листочек обессиленно опустился к ногам Саввы.
Савва, по документам Савелий Александрович Гридин, невысокого роста и тонкий в кости мужичок сорока с небольшим лет, с тоской разглядывал этот желтый резной листок, впервые поражаясь его совершенству и красоте.
Проверяющий закончил поверку, передал журнал дежурному офицеру по лагерю и, повернувшись на слегка кривоватых ногах, пошел не спеша вдоль шеренги черных замызганных бушлатов и таких же ушастых черных засаленных шапок.
Он шел вразвалочку, покуривая и небрежно сплевывая, по пути ненароком размазывая листочек о влажный асфальт плаца каблуком своего отполированного черного сапога
Офицер давно уже перешел к проверке следующей шеренги заключенных, а Савва все смотрел и смотрел на бесформенный грязный ошметок, лишь мгновенье до этого бывший вершиной совершенства природы, отчетливо понимая, что он, Савелий Гридин, более уже не сможет жить здесь, в этой зоне, в этом лагере, в своем бараке под номером двенадцать, за пять лет ставшем почти родным.
Нет, не сможет.
И Савва бежал.
Глупо.
В одиночку.
В стремительно приближающуюся осень…
1.
Еще не успела первая с начала смены, с шумом и треском поваленная сосна рухнуть на землю, ломая на своем пути жидкий подлесок, чахлые березки и худосочный ольшаник, еще не угас предостерегающий крик бригадира — Поберегись! — а Савва уже ломанулся в лес, в обход сидящего возле костра курящего в полудреме вооруженного охранника, справедливо полагая, что если он сейчас сможет незаметно уйти, то о его побеге станет известно как минимум только к обеду. А если повезет, то и не раньше вечера.
Гридин бежал, стараясь не громыхать своими раздолбанными ботинками, забирая постепенно все глубже и глубже в лес, прочь от колючки, временного забора, сооруженного вокруг делянок лесоповала, прочь от сердитого, надсадного рева десятка бензопил, старательно обходя скользкие валуны гранита, покрытые темно-зеленым, мягким и податливым мхом, и полянки, заросшие высокой ломкой травой.
Казалось, что само подсознанье, дремавшее в нем животное начало, подсказывало, как, куда, и почему ни в коем случае наступать нельзя, а куда можно.
Гридин бежал, с наслаждением вдыхая осенний, пропитанный запахами хвои и прелой листвы воздух.
Воздух, напоенный ароматами свободы.
Воздух, о существовании которого он как бы даже и не догадывался там, за лагерной колючкой.
Воздух, в котором не было даже и намека на барачную вонь, испарения вечно влажных портянок, смрад дешевого табака и миазмы переполненной, прокисшей, пузырящейся параши.
Савва остановился перевести дух возле высоченной, отмеченной молнией сосны, сковырнул ногтем тронутую блеклой патиной янтарную каплю смолы и, улыбаясь непонятно чему, отправил ее в рот.
Пряная горечь, тотчас налипшая на зубы Савелия, самым неожиданным образом успокоила беглеца, и дальше уже он шел не торопясь, часто отдыхая и присматриваясь к окружающей его тайге.
С каждым часом, все более и более отдаляясь от зоны лесоповала, Савва все более и более утверждался в правильности своего, на первый взгляд, безрассудного поступка. Так, как он прожил все предыдущие годы, человек жить не должен. Не имеет права. Если он человек…
Да, он вор. Да, наверное, закон прав, хотя и суров.
Но то дно, вся та обстановка, в которой пришлось вариться Савелию Гридину последнее время, меньше всего предполагали его исправление. Ежедневный холод, недоедание, крысятничество и почти нескрываемое мужеложство в зараженных клопами и вшами бараках, беспричинная жестокость и охранников, и охраняемых, ломали людей, озлобляли, лишали их всего того светлого, что было (да как же иначе) в их душах до того, как лагерные ворота заменили им двери родных домов.
И он бежал…
Хотя, если хорошенько подумать, то бежать Савелию было особо-то и некуда…
Жены у него как-то не случилось, а мать после смерти отца, известного в Москве партийного работника, ударилась в религию, да так прочно, что стала старостой небольшого храма в Марьиной роще, а сына родного прокляла и пообещала в дом не пустить даже по истечении тюремного срока…
Да и квартиру, большую, четырехкомнатную, с высоченными потолками и окнами на Тверской бульвар, поклялась безвозмездно передать в дар синоду.
Внезапно кабанья тропа, по которой шел Савва, круто повернула вправо, и тут же глазам изумленного беглеца предстала река во всей своей северной красоте.
Пока еще не быстрая, несколько даже вальяжная, текла она неизвестно куда, необычайно радостная и нарядная, светлая под ярким солнышком, вся сплошь в зеленых кляксах лощеных листьев водяных лилий и в зеркальном отражении чуть тронутых желтизной берез и высоченных кедров, растущих несколько поодаль, на высоком противоположном, красного гранита обрывистом берегу…
— Красота то, какая, Господи! — умиленно возликовал Савелий и присел (впервые после побега) перекурить, радостно щуря обожженные дымом папиросы глаза.
— Красота…
— Да если бы подобное чудо, если бы речушку эту увидеть мне довелось в свое время, по малолетке, да неужто бы понесло меня невесть куда, по дорожке моей, по кривой, по этапной.