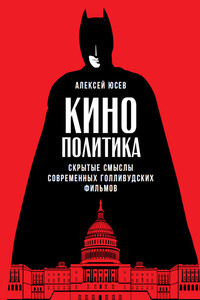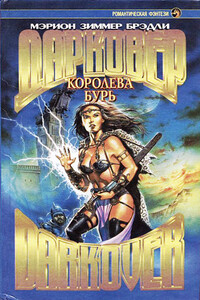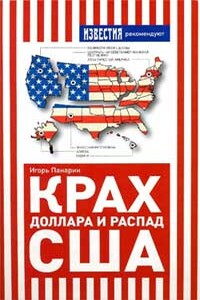Когда твой противник начинает вдруг бессовестно фальшивить, лгать и врать, это хороший знак. Ему, значит, приходится очень плохо, у него уже нет больше никакого честного оружия налицо, он растерял все свои силы, он приперт к стене, ему уже более ничего не остается, как погибать; и вот в эту последнюю минуту он еще, в последний раз, пробует как-нибудь увернуться, хоть на минуту спастись, — и вот он прибегает к самым низким средствам, ко лжи, фальши, к выдумкам. Поэтому-то последняя статья г. Буренина в «Новом времени» (№ 3275), под названием «Таран художественной критики». Очень меня порадовала: она вся полна тех прекрасных качеств, про которые я говорю, она только показывает отчаянное положение этого автора. Ему, повидимому, вместе с его «Новым временем», слишком солоны пришлись недавние мои выписки (в «Вестнике Европы») из их статей, ему, во что бы то ни стало, требуется ослабить впечатление всего того, что они с г. Сувориным и другими наговорили в своей газете про русское искусство и русских художников. Посмотрите, ради бога, какую массу лжи и фальши он выдвинул нынче вперед для заштукатурения своих безобразий.
Прежде всего, г. Буренин объявляет, что я «зову всех наших художественных критиков, за исключением себя самого, тормозам» русского искусства, что, по моему мнению, все художественные наши критики и писатели «пишут только вздор». Первая ложь. Таких слов я никогда не говорил и ничего подобного никогда не думал. Начиная с самой первой страницы своей статьи, я высказывал, что у нас немало людей, страстно любящих русское художество, с любовью следящих за его успехами и считающих всякий новый шаг его вперед истинным торжеством и праздником для себя. «Да, — прибавлял я, — по счастью, таких людей у нас теперь уже немало, и их мнения много раз высказывались даже в печати». Эту мысль я много раз подтвердил в своих статьях многочисленными примерами, а в одном месте привел даже множество отрывков из отзывов провинциальной нашей печати, которые служат доказательством не торможения, а самого симпатичного отношения к русскому искусству. Но, само собою разумеется, так как моя задача была на этот раз «тормозы», то о них всего более и говорено в моих статьях. Если бы мне понадобилось указывать благоприятные влияния на наше искусство, то я бы их и указал, и хотя их было у нас всегда несравненно менее, чем «тормозов», но все-таки они были, и о них я не раз упоминал в других случаях.
Беря под свое покровительство нашего живописца Брюллова, г. Буренин уверяет своих читателей, будто бы я называю этого художника «совершеннейшею дрянью». Вторая ложь. Я никогда не говорил ничего подобного. В течение последних 25 лет я не раз писал о Брюллове, много, раз нападал на то, что находил у него поверхностным, легкомысленным, надутым, риторичным, фразерным, холодным, бессердечным, фальшивым, но все-таки всегда отдавал справедливость его внешнему таланту и блеску. Правда, у меня раз встречается слово «дрянность»: в одной из последних статей своих я говорил про то, что г. Буренин, даже и до сих пор, «не способен был уразуметь все ничтожество и дрянность обычного содержания у Брюллова, всю академичность его склада и направления, как это давно уже признала вся Европа», но ведь каждый, знающий грамоту, видит, что тут речь идет о «дрянности содержания картин», а не о «дрянности Брюллова». Далее, г. Буренин уверяет, что я называю Брюллова — «ничтожностью». Третья ложь. Ничтожностью называл Брюллова не я, а Тургенев. Он даже удивляется, как это могли «20 лет сряду поклоняться такой пухлой ничтожности, как Брюллов». И так думал не один Тургенев, можно было бы указать много и других, начиная с знаменитого нашего живописца Иванова и кончая множеством людей из среды художников и публики, особливо в последнее время. Далее, г. Буренин говорит, что, по моему мнению, Пушкин и Гоголь не понимали ничтожества Брюллова «по совершенному своему эстетическому невежеству». Четвертая ложь. Я никогда ничего подобного не говорил. Можно быть талантливым, великим писателем и все — таки ошибаться в понимании других искусств, но это не значит быть эстетическим невеждой.
Для того чтобы доказать мою клевету на Гоголя, что он и не подозревал в живописи той правдивой реальности, какая наполняет его творения, г. Буренин уговаривает меня прочитать одно место в «Портрете» Гоголя, где один художник дает другому такой совет: Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Эти слова Гоголя приведены г. Бурениным для того, чтоб поразить меня наголову. Однако, оказывается, что этого не будет, потому что своею цитатою из Гоголя г. Буренин совершил только фальшь и подлог. Не то, чтоб этих слов не было у Гоголя, но дело в том, что они совсем другое значат. Г-н Буренин тщательно скрыл от своего читателя (может быть, не довольно твердо помнящего это место у Гоголя), что эти слова говорит своему сыну — кто? Не простой художник, не обыкновенный живописец, а схимник, удалившийся в монастырь, а потом в пустыню, отказавшийся от мира, долго не хотевший брать кисти в руки и, лишь по приказанию своего игумена, решившийся, наконец, написать картину «Рождество Христово». Поэтому-то в наставлении своему сыну он и говорит: «Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. Все принеси ему в жертву и возлюби его со всею страстью; — не страстью, дышащею земным вожделением, но тихой небесной страстью: без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения…» Спрашивается: про какое искусство говорит тут Гоголь? Ясно, про религиозное и идеальное. Здесь нет и помина о том реальном искусстве, почерпнутом из живой действительности, которому посвящены все великие создания Гоголя. Значения той живописи, которая бралась бы за такие точно сюжеты, какие у него самого всегда были в его повестях и романах, он еще не понимал и не подозревал. Вдобавок ко всему, г. Буренин «забыл* упомянуть, что в том же „Портрете“, всего несколькими страницами выше, Гоголь прямо уже отзывается с полным презрением о „жанре“, повидимому, бывшем ему вполне антипатичным.