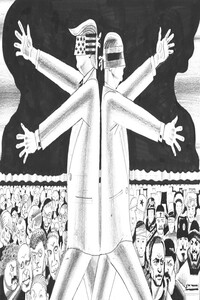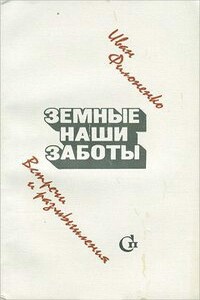Все мы говорим, что сравнения одиозны; интересно, знает ли хоть один из нас — почему. По существу сравнения вообще применяются для более точного различения степеней и свойств; так зоолог, решив дать четкое и исчерпывающее описание жирафа, сказал, что «он выше слона, но не так массивен». Здесь нет ничего одиозного — нет никакого намека на жестокость по отношению к диким слонам или излишнюю мягкость и попустительство по отношению к жирафам. Но когда от природы естественной мы переходим к природе человеческой, сравнение всегда отдает уничижением. По-моему, объясняется это так: по какой-то причине, вероятно, вследствие первородного греха, запас слов, выражающих хвалу, у нас чрезвычайно невелик по сравнению с богатым и разработанным словарем, выражающим хулу. Ученого или интеллектуала, который нам не по душе, можно назвать педантом или сухарем, но у нас нет специального слова для ученого или интеллектуала, который нам по душе. Светского человека, который нам неприятен, можно назвать снобом, но у нас нет специального слова для светского человека, который нам приятен. В результате нам не остается ничего иного, как называть наших друзей людьми «милыми». Представьте себе, что вы называете «милым» доктора Джонсона[1], а Фокса[2] — тоже «милым» и Нелсона[3] — «милым»! Эти характеристики не будут отличаться ни точностью, ни разнообразием!
Недавно я одновременно читал две книги о писателях, которые оба были очень «милы» и сочиняли очень «милые» книги. Речь идет о двух великих детских сказочниках XIX в. Вместе с тем трудно себе представить двух других людей, которые были бы до такой степени во всем противоположны друг другу; но, если я не ограничусь тем, что назову их обоих «милыми», а попытаюсь сравнить их или рассказать о том, что они собой представляли, впечатление создастся такое, будто я хвалю одного из них и порицаю другого. Это потому, что мы не умеем разнообразить хвалу так, как мы разнообразим порицание. Одним из этих людей был Чарлз Доджсон, известный более под именем Льюиса Кэрролла, оксфордский ученый и очень викторианский англичанин духовного звания; другим — Ханс Христиан Андерсен, странный, больной, мучимый видениями датский крестьянин и автор бессмертных сказок.
Когда я говорю, что Льюис Кэрролл был очень викторианским англичанином, это звучит упреком, хотя должно было бы звучать также и комплиментом — вот только гораздо труднее найти слова для описания того, что было в викторианской Англии доброго, чем для того, что в ней было дурного. Если я скажу, что Доджсон-ученый по сравнению с Андерсеном-крестьянином был традиционен, благополучен и респектабелен, эти слова прозвучат неодобрительно, но только потому, что у вас нет слов для того, чтобы выразить доброе отношение к тому доброму и хорошему, что зачастую бывает связано с традиционностью и благополучием.
Было бы невероятной глупостью считать Викторианский Век только традиционным и благополучным, забыв о том, что он породил новый тип поэзии, которая была неукротимой до крайности, и в то же время до крайности невинной. То была поэзия чистого нонсенса, которой никогда не существовало до того и, возможно, никогда не будет существовать позже. Льюис Кэрролл — не единственный ее представитель; Эдвард Лир, как мне представляется, во многом его превзошел; и я позволю себе вступиться за «Катавампуса» и другие повести судьи Парри[4], которые нисколько не менее нравились юным читателям. Письма Льюиса Кэрролла к детям доказывают не только, что он любил детей, но и что дети любили его; и все же я полагаю, что его интеллектуальные эскапады предназначались для взрослых. В Льюисе Кэрролле все было связано с тем, что он называл Логической Игрой; кстати, считать логику игрой очень по-викториански. Викторианцам надо было изобрести некий Эфемерный Эдем, где они могли бы наслаждаться доброй логикой, ибо всему серьезному они предпочитали дурную логику. Это не парадокс — или, во всяком случае, парадокс, в котором повинны они сами. Маколей[5], Бейжхот[6] и все их наставники внушили им, что Британская Конституция должна быть нелогичной они называли это практичностью. Прочтите великий Билль о Реформе[7] — а затем прочтите «Алису в Стране чудес». Чтобы быть логичными, им нужно было отправиться в Страну чудес. Потому я и подозреваю, что лучшее у Льюиса Кэрролла было написано не взрослым для детей, но ученым для ученых. Самые блестящие его находки отличаются не только математической точностью, но и зрелостью. На одной только несравненной фразе «Видала я такие холмы, рядом с которыми этот — просто равнина!»[8] можно было бы построить с десяток лекций против ереси о простейшей Относительности.
Правда, можно усомниться в том, что маленькие девочки, для которых писал Кэрролл, мучились релятивистским скептицизмом. Но в том-то отчасти и состоит величайшее достижение Льюиса Кэрролла. Он не только учил детей стоять на голове; он учил стоять на голове и ученых. А это для головы хорошая проверка. Когда викторианцам хотелось устроить себе каникулы, они их и устраивали, настоящие интеллектуальные каникулы. Они сумели создать мир, который — для меня по меньшей мере — до сих пор остается своеобразным прибежищем и тайными каникулами, мир, в котором чудища, в других сказках устрашающие, превращались в мирных домашних животных. Ничто не отнимет у викторианцев этого достижения. То был нонсенс ради нонсенса. Если мы спросим, где нашли это волшебное зеркало, ответ будет таким: среди очень мягкой и удобной викторианской мебели; иными словами, это произошло потому, что благодаря исторической случайности Доджсон, Оксфорд и Англия в то время наслаждались благополучием и безопасностью. Они знали, что им не предстоит никаких битв — разве что внутри партийной системы, где Труляля и Траляля условились сражаться