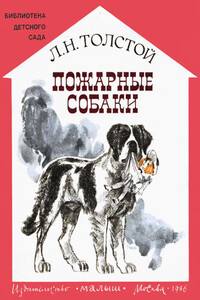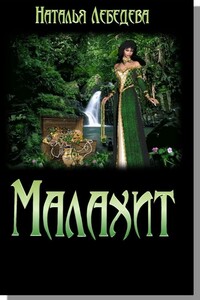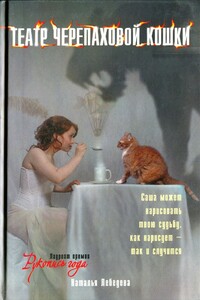Дед Сергей сидел на скамейке перед домом. Руки его опирались на посох, глаза слезились и щурились от яркого света, по лицу пробегали прозрачные тени березовых листьев, ветер развевал длинные седые волосы и бороду. Бойкая ладная девица, подняв деда с кровати нынешним утром, долго умывала его и расчесывала частым гребнем. Теперь та же девица развешивала на веревке во дворе простыни из небеленого льна, и мокрая плотная ткань билась на ветру, пугая влажными хлопками кур.
Дед пытался вспомнить, как зовут девицу, перебирая имена внучек, но потом вдруг осознал, что всех своих внучек пережил. Правнучек же было слишком много, и имен их держать в голове он уже не мог, потому что был слишком стар.
Дед крепче сжал ореховую палку, погладил ее теплую, отполированную ладонями верхушку и заплакал без рыданий и всхлипов: просто слезы потекли из глаз по глубоким руслам морщин.
Дед Сергей не помнил, сколько он жил – сбился со счета, кажется, на восьмидесяти годах. Но вот эту ореховую палку он срезал уже после восьмидесятилетия, когда еще мог ходить и забирался порой далеко в лес.
Куст лещины рос рядом с родником. Темный мох пружинил под ногами, солнце скрылось за серыми тучами, сумрак сгустился под кронами деревьев и у корней кустов, а родник казался ярче серого света, словно мерцание рождалось глубоко под землей и струилось изнутри по голубым родниковым жилам. Дед Сергей опустился на влажный, покрытый рыжим мхом камень подле родника, долго смотрел, как бьет из земли чистая вода, и слушал тихий ее плеск. Вспоминался деду голос жены и то чистое, прозрачное счастье, которое рождалось в груди, когда она была рядом. Боль от потери с годами притупилась, но тут, подле источника, она зазвенела с новой силой. Он глотнул ледяной воды – и словно причастился. Чтобы было легче идти назад, дед Сергей срезал ореховую палку и пошел, ощущая в себе такие силы, какие не всегда бывают и у молодых.
Дед Сергей не собирался заживаться. Думал, век ему отмерен небольшой. Однако ошибся, пережил жену, дочь, внучек. Они умирали родами, умирали от новых болезней, да и от старых тоже – потому что привезенные с собой лекарства кончились быстро. Дед Сергей поначалу считал это проклятием, а потом подумал: счастье, что он смог увидеть, как разрослась и окрепла его маленькая когда-то семья.
Перед ним был большой дом и постройки из свежего теса. За домом раздавались звонкие голоса детей постарше; оглушительно вопил в самом доме народившийся только этой весной младенец.
Здесь же, перед воротами, изнывая от жары, лежали собаки, предводительствуемые белым с черными пятнами Дружком, гигантом с порванными в драках ушами. Собаки свое дело знали: не трогали домашних и не пускали чужих. Дед Сергей вспомнил самого первого приблудившегося пса и порадовался, что не прогнал его. Меж собаками бродили бесстрашные куры и холеный петух с темно-коричневым хвостом и рыжей, блестящей в солнечных лучах грудью. Дед Сергей подумал, что точно такой петух – керамический, большой – был в его детстве. Он стоял высоко на мамином серванте, и в клюве его была проделана дырочка: петух был кувшином. Маленькому Сергею всегда хотелось посмотреть, как польется через дырочку вода, а еще больше хотелось, чтобы из этого кувшина налили ему в чашку компот, но мама никогда так не делала и строго-настрого наказывала, чтобы и сам он не смел снимать петуха с полки.
Мамины руки помнились особенно хорошо: белые, пухлые, похожие на подошедшее, оживающее тесто. Он сразу вспомнил, как мама мяла тесто своими удивительными руками, и как пахли испеченные в печи ржаные пироги. Он так и не смог потом, сколько ни пытался, вернуть вкус тех пирогов – вкус детства.
Нахальные курицы в поисках крошек подошли к деду Сергею под самые ноги, и он застучал палкой, отгоняя их от себя. Куры разбежались, обиженно кудахтая, а рыжий петух оскорбился и перелетел на гниющий остов жигуленка, вросший в землю по самые окна и наполовину скрытый лопухами. Никто давно уже не обращал на остов внимания, все привыкли, что он торчит здесь, безопасный и бесполезный. Дед Сергей все хотел объяснить внучкам да правнучкам, что это за штуковина и как она работала, когда могла работать, но слушать его никто не хотел, а если и слушали, то не понимали, а только кивали головами из уважения к его седине и былым заслугам.
Бывало, подозвав кого-нибудь из малышей, дед начинал учить их азбуке, чертя в пыли палкой буквы, но детвора, стоило ему зазеваться, сбегала. Ребятишкам интереснее было лазить по яблоням да искать в лесу и на поле сладкие капли земляники. На взрослых же ложился тяжкий труд, и с зари до захода солнца домашние работали, не разгибая спины, так что учить грамоту было некогда, и редко кто мог прочесть простое слово или сосчитать хоть бы до десятка.