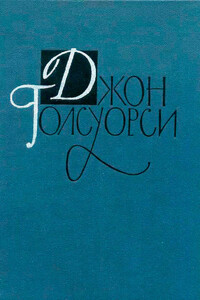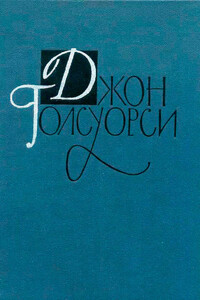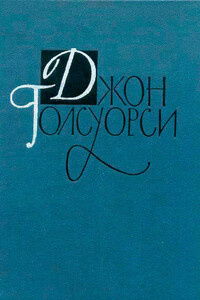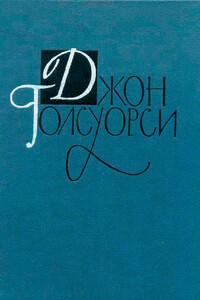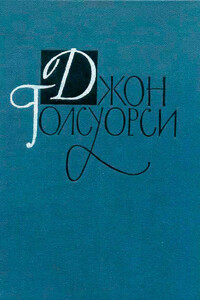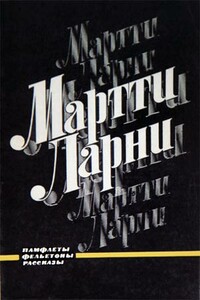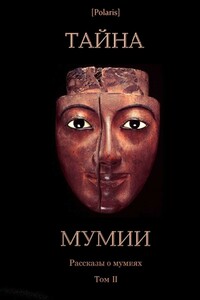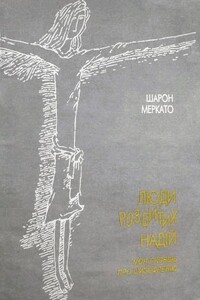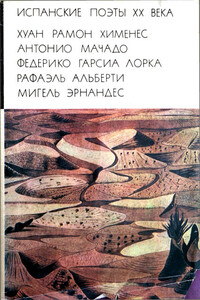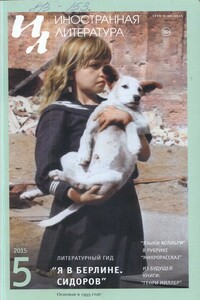Платеро маленький, мохнатый, мягкий — такой мягкий на вид, точно весь из ваты, без единой косточки. Только глаза у него кристально твердые, как два агатовых скарабея...
Я снимаю уздечку, и он бродит лугом и рассеянно, едва касаясь, нежит губами цветы, розовые, голубые, желтые... Я ласково окликаю: «Платеро!» — и он бежит ко мне, и радостная рысца его, похожая на россыпь бубенцов, словно смеется...
Ест он сколько ни дам. По душе ему танжерские апельсины, сплошь янтарные грозди муската, лиловый инжир с его хрустальной капелькой меда...
Он неженка и ластится, как дитя, как девочка,— но сух и крепок телом, точно каменный. Когда воскресным днем я проезжаю городскую окраину, люди из селений, приодетые и степенные, медленно провожают его взглядом:
— Как литой...
Да, он как литая сталь. И сталь, и лунное серебро.
Густеет, уже затуманиваясь, фиалковая ночь. Зеленые и мальвовые отсветы смутно теплятся за колокольней. Дорога поднимается, полная теней, колокольчиков, запаха трав и отзвука песен, усталости и нетерпения. Вдруг темная фигура, высветив угольком сигары грубое лицо под фуражкой таможенника, выходит из хибарки, затерянной в мешках угля. Платеро пугается.
— При себе что-нибудь есть?
— Да вот... Белые бабочки...
Он целится в корзину железным щупом, и я не противлюсь. Открываю переметную сумку — пусто. И духовный провиант, незатейливый и ничей, минует пошлинные сборы...
Когда в сумерках я и Платеро, оба продрогшие, въезжаем в лиловую тьму жалкой улицы, сползшей к сухому руслу, бедняцкие дети тешатся страхом, играя в нищих. Один набросил мешок на голову, другой гнусавит, что слеп, третий прикинулся колченогим...
И, с резкой переменчивостью детства, раз уж они одеты и обуты, а матери — сами не ведая как — наскребли поесть, они вдруг чувствуют себя принцами:
— У моего отца серебряные часы...
— А у моего конь...
— А у моего ружье...
Те самые часы, что будят до рассвета, и то ружье, что не убьет голода, и конь, который везет к нужде...
А после — хоровод, в угольной тьме. Хрупким, точно стеклянная струйка, голосом девочка с нездешним говором, приезжая, заводит высоко, как принцесса:
Была-а-а я графи-и-нне-е-ей,
а ста-а-ала вдо-о-ово-ой...
[1]...Пойте же, пойте, пока мечтается! Скоро, едва забрезжит юность, весна отпугнет вас, как нищенка, своей зимней личиной.
— В дорогу, Платеро...
Мы невольно спрятали руки в карманы, и лица, как на краю бора, овеяло темной прохладой. Одна за другой укрылись на спасительном насесте куры. Пригасла окрестная зелень, точно лиловый алтарный покров лег на поля. Забелело далекое море, и бледно проступили звезды. Сколько оттенков белизны сменили плоские кровли! Мы, стоя на них, выкрикивали нечто более или менее осмысленное, маленькие и темные в тесной тишине затмения.
И все мы, кто во что, смотрели на солнце — в театральные бинокли, в подзорные трубы, сквозь бутылки, сквозь задымленные осколки,— и смотрели отовсюду, с лестниц, голубятен, из чердачных окон, из-за решетчатых дверей сквозь их синие и красные стекла...
А солнце, то самое солнце, что мгновение назад своей золотой сумятицей все вокруг делало вдвое, втрое, вдесятеро больше и лучше, разом, минуя сумерки, оставило все бедным, покинутым, словно разменяв золотые, а затем серебряные слитки на медь. Весь город обернулся медяком, позеленелым и уже неразменным. Как невзрачны и жалки проулки, площади, башня, нагорные тропы!
Платеро там, во дворе, кажется другим, уменьшенным и нереальным; это не он...
Большая, зеркальная, нас нагоняет луна. Смутно возникают на сонных лугах черные, неведомые козы, замершие в ежевике. Кто-то беззвучный исчезает с нашего пути... На бугре огромный миндаль с белым облаком на вершине, весь завьюженный лунными цветами, заслонил дорогу от каленых мартовских звезд... Вкрадчивый апельсинный запах... Сырая тишина... Ведьмин Лог...
— Платеро, до чего ж... холодно!
Платеро, подстегнутый страхом,— не знаю, своим или моим,— с разбега входит в ручей и дробит луну, брызгая светлыми осколками. Словно рой ледяных роз вьется вокруг, оплетая, чтоб задержать его бег.
И Платеро, поджимая круп, будто за ним гонятся, трусит в гору, чуя нежное и такое, кажется, недостижимое тепло людского жилья, уже близкого...
Траурно одетый, с назарейской бородкой под низкой черной шляпой, я странно, должно быть, выгляжу на сером руне Платеро.
Когда дорогой к виноградникам я пересекаю солнечный мел окраин, лоснистые кудлатые цыганята, смугло блестя из желтых, зеленых и красных 'лохмотьев тугими животами, долго вопят, догоняя нас:
— Помешанный! Помешанный!
...Уже зеленеет навстречу поле. И перед огненно-синим, бездонно чистым небом мои глаза — так далеко опережая слух! — гордо раскрываются, тихо вбирая этот невыразимый, певучий покой, нездешний покой горизонта...
И далеко позади, за высоким гумном, мягко глохнут, задыхаясь, прерывистые, резкие, назойливые крики:
— Спя...тил! Спя...тил! Спя...тил!
Не пугайся, глупый! Что стряслось? Ну, спокойно... Это убивают Иуду, дурачок. Да, убивают Иуду. Один водружен на Монтуррио, другой на проспекте, еще один там, у муниципального колодца. Я увидел их ночью, сверхъестественно парящих в воздухе, где веревка, с чердака на балкон, была незаметна. Какая гротескная мешанина старых цилиндров и женских рукавов, масок министров и побрякушек — под ясными звездами! Собаки лаяли на них, не унимаясь, а кони, боясь пройти под ними, пугливо пятились...