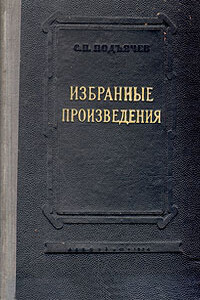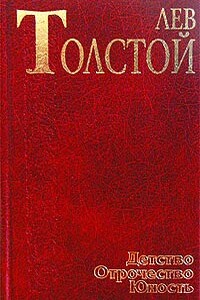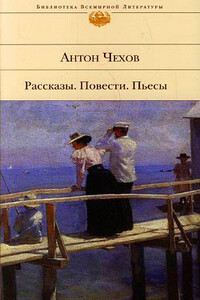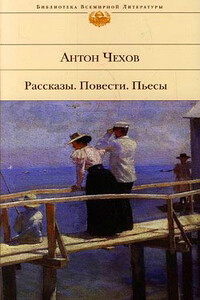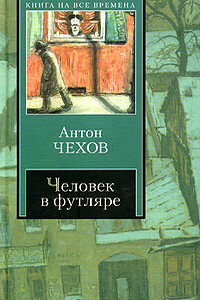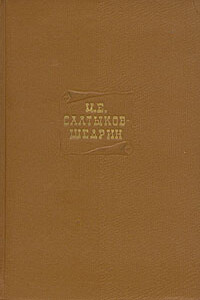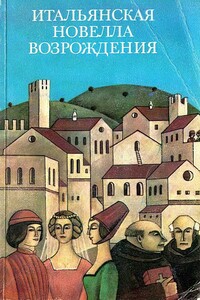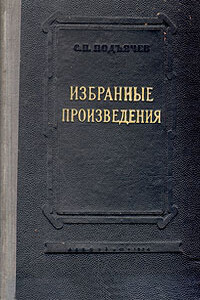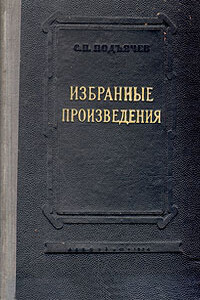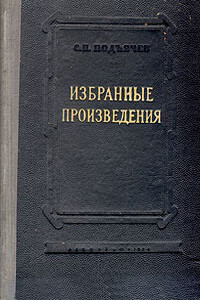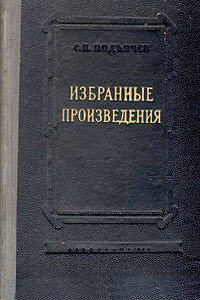В деревне Дубининой случилось чудо-чудное, диво-дивное: бывший старый графский кучер Харламп Василии получил письмо от графа Анатолия Викторовича Орлова-Соколова.
Получение письма произошло так. Дело было как раз накануне вешнего Николы — престольного праздника. Харламп Василич лежал на печке, где он, по привычке, мог лежать даже в сорокаградусную жару и «парить вшей», по выражению молодой снохи — жены его старшего сына, у которого он проживал «на спокое», — когда какой-то мальчишка принес ему с почты из соседнего села, бывшего имения графа, письмо.
В избе в это время была одна только сноха или, как называл ее Харламп Василич, «сношенка», убиравшаяся к празднику, да он сам, как уже и было сказано, лежавший вниз животом на самом горячем месте и вспоминавший (что только ему и осталось) свое бывшее житье в кучерах.
— Дяденька Харламп дома? — крикнул с порога мальчишка.
— А за каким он тебе дьяволом понадобился? — спросила сношенка, выглянув из-за перегородки.
— Письмо ему вот отдать наказывали с почты.
— Какое письмо? — удивленно воскликнула сношенка. — Вот он на печке лежит, вшей парит.
И, обратившись по направлению к печке, крикнула:
— Эй, ты, Ваня запечный, письмо тебе от любовницы принесли! Проснись! Хи-хи-хи!
Харламп Василии слышал весь этот разговор, и при последах словах сношенки повернулся на бок и, выставя наружу бороду, захрипел:
— Ты что там насмешки-то надо мной делаешь, а? Мальчик я тебе дался? Я двадцать лет у графа выжил, худого слова от него, окромя как «сволочь», не слыхивал, а ты, шкура волчажья, семиуездная лахань, постарше себя насмешки творишь!
— Да какие насмешки? Эвон мальчик-то? Вру я, что ли?!
— А ты что, чертенок, вольница проклятая, торчишь здесь?! — набросился он на мальчишку. — Тебе чего надо, окаянная сила?! Стекла нашел дело в раме бить, да своих разбойников-учителей — нехристей — слушать. Слезу — убью поленом! Ноги перешибу! Узнаешь, как добрых людей на грех наводить!
Мальчишка, в свою очередь, тоже окрысился:
— Чего же ты лаешься-то, собака старая? Письмо тебе отдать велели, я и принес, а он лается. Сам-то ты нехристь!
— Какое письмо? Насмешка, не иначе, опять какая-нибудь? Мне писем получать неоткуда.
— Может, какая прежняя вспомнила, прислала? — опять, засмеявшись, сказала сношенка.
— Тьфу! — плюнул с печки в ее сторону Харламп Василич. — Засад бы тебе в глотку-то, дай, господи, сел! Кол осиновый!
— Бери, бери письмо-то! Дай-ка, сынок, я ему передам. На! Вру, что ли, разуй глаза-то! Эна, с какими печатями! Издалека, знать, шло.
Харламп Василич, увидя, что действительно она подает письмо, поверил и принял его.
— Аказия! — произнес он, вертя его в руках.
— Давай распечатаю, прочитаю, — сказала сношенка, — а то вот он, — кивнула она на мальчика, — прочитает: грамотный, небось, а я-то уж, чай, разучилась.
— Так я тебе и дал. Ишь, ты, разлетелась с рылом-то! Может, тут насмешка какая. Насмех мне прислано. Языком-то тебе болтать после. Я к священнику схожу: он прочитает.
— Как хошь. Дело твое. А то давай! Любопытно, какая это тебя вспомнила, пишет. Послушать бы!..
— Тьфу! — харкнул опять Харламп Василич и, выругавшись, слез с печки и начал надевать на себя какой-то пиджак.
— Куда срядился-то, к попу, что ли? — спросила сношенка.
— А уж это дело не ваше. Много будешь знать — подол замочишь! — ответил Харламп Василич и вышел из избы.
— К попу, знать, пошел, — обратившись к мальчику, все еще бывшему в избе, сказала она и, снова принявшись за уборку, добавила: — Вот уж верно: спал да выспал!
Харламп Василич действительно направился к батюшке отцу Геннадию, с которым у него — по пословице: «рыбак рыбака видит издалека» — была дружба и которому он, переполненный злобой на «нонешние порядки», изливал свою душу, захлебываясь слезами, вспоминая прежнюю свою службу у графа в кучерах.
Отец Геннадий, преклонных лет поп, накануне престольного праздника Николы предвкушая хорошую поживу с православных, был в самом благодушном настроении и, готовясь вечером служить всенощную, хотел перед этим делом «попариться» в печке: уже попадья купно с работницей Авдотьей, по прозвищу «Коряга», приготовила ему и водицы той и другой — холодной и теплой, и соломки, и два свежих веника, когда запыхавшись, пришел Харламп Василич с письмом.
— Батюшка у себя? — спросил он, войдя в кухню, у бывшей здесь Коряги.
— А зачем тебе?
— Надо. Отдыхает, что ли?
— Мало что надо! Он сейчас в печку полезет париться. Некогда ему! Нашел время ходить! Приходил бы опосля праздника.
Харламп Василич обиделся таким обращением, ибо он считал себя неимоверно выше, чем эта работница, служащая у попа, тогда как он (гордость его) служил двадцать лет у его сиятельства графа.
— А ты много-то не разговаривай, — сказал он, — у тебя спрашивают: дома? — должна с кротостью, как подобает порядочной женщине, а наипаче прислуге, ответить на вопрос, а не по-свинячьи хрюкать. Дура-голова, необузданная! Не знаешь, как у хороших господ служить! Тебя бы к графу! Он бы тебя научил делу. Дома, что ли? Говори!
— Ну, дома! Чего тебе? Господин тоже, подумаешь, выискался! Эка невидаль, что ты у графа жил, а мне наплевать! По мне хучь у самого царя, а все ты как был гужоед, так им и сейчас остался. Шишка какая, подумаешь! Много вас тут, учителей, найдется. Шляются, пол топчут, не успеваешь мыть. Да что я, каторжная, что ли, какая для вас далась! Вы…