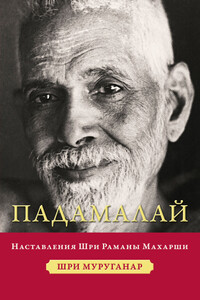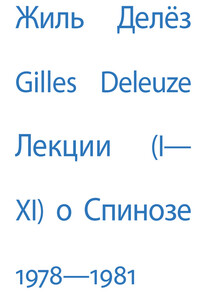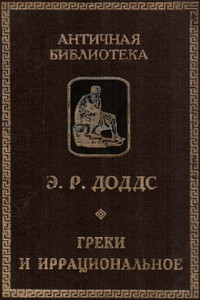Как могу я обращаться к моим дочерям и сыновьям, к моим внукам и правнукам, не думая при этом обо всех тех, кого втянули в гнусную вселенную денег и власти и у кого уже завтра могут отнять обещание жизни, не предлагая ничего взамен, – жизни, что беззаветно преподносится в дар при рождении?
Если бы мне не претили моральные наставления, то я бы ограничился великодушными гуманистическими высказываниями. Однако мне видится некая непоследовательность в том, чтобы поощрять духовность благих намерений, не предупредив о чудовищах бытового насилия, коим ничего не стоит с этой духовностью разделаться.
Простота человека и мира, в котором он пытается жить, – всего лишь видимость. Поверхность существ и вещей обманчиво безмятежна, точно гладь озера, но рыбу, что беззаботно плещется в воде, уже опутали сети. Впрочем, эволюция нравов и мышления достигла такой стадии ускорения, что во тьме вчерашнего дня странные скопления очевидных свидетельств предстают в новом свете.
Быть может, с упрёком, который я часто слышу в свой адрес, согласитесь и вы: дескать, мой стиль требует от читателя большего усилия и внимания, чем любой роман.
Существует ли что-либо более несуразно доходчивое, нежели переливание из пустого в порожнее предрассудков, веками подменявших мысли, нежели эти общие места, измусоленные одним поколением за другим так, что их стали принимать за вечные истины? Философии, религии, идеологии только и делали, что утверждали такой подход, который – несмотря на всё его разнообразие – подчиняется одним и тем же якобы неизменным движущим силам: жажде власти, влечению к деньгам, соперничеству, борьбе силы и хитрости, вырывающемуся наружу и обуздываемому зверству, любви, лишённой человеческих свойств, тревоге, вызванной чувством вины, отдалению человека от самого себя, тягости бытия.
Те, чья мысль никогда не покидает пределов заурядной констатации этих вечных стимулов, те, кто не способен выйти из круга бесконечного пережёвывания устаревшей модели человечества – именно те люди корят меня за то, что я повторяюсь, стоит лишь мне насыпать несколько крупинок песка на шестерёнки механической судьбы, которая – а они это знают и давно с этим смирились – увозит их туда, куда им не надо.
Нельзя расколоть окаменевшие улики прошлого, не ударив по ним молотом идей, способных раздробить старые шаблоны и открыть будущему пути, которые всё равно в конечном итоге утратят своеобразие.
Как же не оттолкнуть читателя, обрушив на него обжигающую правду, если он, привыкший к холодному пеплу, боится до неё дотронуться? Я не собираюсь прибегать к тем литературным уловкам, на которые не скупятся авторы, пытаясь привлечь читателя. Моя дилемма заключается в том, чтобы избегать хитростей соблазнения и в то же время не отказываться от лени, каковую я в достаточной мере ценю, пользуясь её преимуществами.
Говорят, что Леонардо да Винчи построил себе комнату, где стены были сплошь покрыты маленькими зеркалами. Он приходил туда размышлять, отдаваясь игре воображения в центре этого микрокосма, который «отображал» его, преумножая и изменяя его образ. Он сидел там, посреди множества отражений, в коих ему одному был виден смысл. Не так ли и мы всю жизнь окружены разрозненными осколками мозаики, в которых те же самые предметы и существа предстают перед нами снова и снова, но каждый раз под иным углом, изменяющим освещение и наполняющим их новыми значениями?
Повтор – это иллюзия. Он напоминает музыкальные вариации на заданную мелодию. И когда в конце композитор возвращается к первоначальной теме, то её непрерывное звучание уже дополнено всеми теми импровизациями, которые он вводил и которые нанизывались одна на другую.
Мозаичная композиция играет на парадоксе сродства и отчуждённости. Читателю надлежит сосредоточиться на самом себе, чтобы по ходу моих размышлений выбирать то, что перекликается с его собственными стремлениями; чтобы догадаться, какие из возможных путей приведут его хитросплетённые желания к осуществлению.
Вы тратите столько энергии, работая над тем, что изнуряет и истощает вас, и вы ещё досадуете по поводу усилия, необходимого для сближения с миром и для желания изменить его целиком и полностью?
Я понимаю, намного легче поддерживать всеобщее заблуждение, а не настоящую жизнь, но я отказываюсь поддаваться этой трусливой простоте, равно как я отказываю гнилым и злобным чувствам в праве душить человеческое понимание жизни, которую предстоит построить.
Мы так привыкли к приметам, тоскливая череда которых обусловливает повседневное выживание, что проблески безвозмездно открывающейся нам жизни пугают нас своей необычайной яркостью и ранят, точно уколы абсурда.