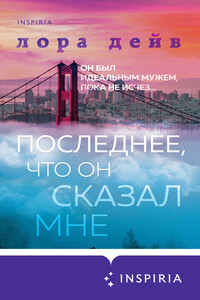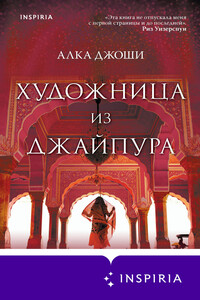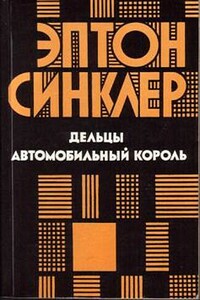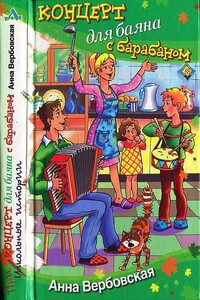Июнь 1940.
Нью-Йорк
Руби ждала у кабинета Майка Митчелла уже сорок пять минут, сидя на жестком стуле под мерцающей электрической лампой. Блестящий этаж Рокфеллер-центра, где располагались роскошные кабинеты, предназначался не для «Америкен». Четвертый по популярности американский журнал прозябал на третьем этаже не имеющего лифта здания, расположенного в самой занюханной части Восточной Сорок седьмой улицы, и если кто-то жаловался на нехватку телефонов или необходимость надевать в помещении пальто в период с ноября по апрель, то мистер Митчелл просто смотрел на него взглядом, который, как знали все, обозначал: «Если тебе не нужна эта работа, то спустя секунду здесь будет десяток человек, с радостью готовых занять твое место».
Не успела Руби утром снять пальто, как ее вызвала его секретарша, и теперь, сидя в ожидании, она радовалась тому, что сегодня в очередной раз не успела позавтракать, потому что ее желудок принялся совершать кульбиты. Мистер Митчелл поздоровался с ней в первый день и после этого два раза кивал ей в коридоре, но она даже не была уверена, знает ли он, кто она такая. А теперь, как выяснилось, он хочет ее увидеть.
Она считала, что успешно справляется со своей работой в журнале. Ее именем уже были подписаны две опубликованные статьи, а в пяти других случаях ее упоминали как соавтора. Она даже получила повышенный гонорар за недавнюю душещипательную историю о семье бельгийских беженцев, которые никак не могут прийти в себя от потрясения после катастрофического разгрома их страны.
Может быть, она кому-то перешла дорогу. Сделать это было легко, поскольку среднестатистический репортер – нервный, как кот в комнате, заставленной креслами-качалками. Не сказала ли она чего-нибудь не в свой черед на последней летучке? Может быть, она совершила ошибку, перебив кого-то из старой гвардии?
Мистер Митчелл этим утром был на удивление тих, что само по себе вселяло тревогу. Руби, проработав несколько первых дней в журнале, привыкла к его грубому реву, который был неизменно звучащей басовой нотой в редакционной комнате. Даже когда дверь его кабинета была закрыта, что случалось нечасто, его возгласы, то одобрительные, то возмущенные, было легко услышать за стуком печатных машинок, звонками телефонов. Но она понятия не имела, что представляет собой тихий Майк Митчелл – хорошо это или плохо.
– Мисс Саттон! Все еще здесь?
– Да, сэр, – ответила она и, чуть постукивая зубами, осторожно вошла в кабинет.
Она предполагала, что в его кабинете царит кавардак, как в кабинете почти любого главного редактора – стопки бумаг, книг, страницы корректуры с пометками. Но стол мистера Митчелла был практически пуст. Два телефона, в середине одинокий лист бумаги, старый кофейник, из которого торчали ручки и карандаши для рисования музыкальных нот. А больше ничего.
Когда Руби вошла, мистер Митчелл смотрел в окно, из которого была видна лишь голая кирпичная стена, а когда развернул кресло лицом к ней, она изо всех сил постаралась не шевелиться. Прядка волос щекотала ее щеку, но она подавила в себе желание убрать ее за ухо. Если она начнет возиться с прядками, то непременно занервничает, а нервный вид будет подразумевать, что она знает за собой какие-то грехи. Это был один из первых уроков, которые она выучила девчонкой в приюте Святой Марии, и один из самых трудных.
Она откашлялась в ожидании, а когда он снова ничего не сказал, заговорила сама:
– Вы просили меня зайти к вам?..
– Да. – Он указал на стул перед его столом. – Садитесь и напомните мне – сколько вы у нас уже работаете?
– Около шести месяцев, сэр.
– Вы довольны работой? Нашли свое место?
– Да, сэр.
– Билл Петерсон вами доволен. Он говорит, что вы не жалеете себя на работе, а ваши уши и глаза всегда открыты.