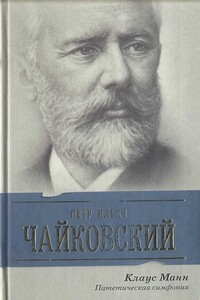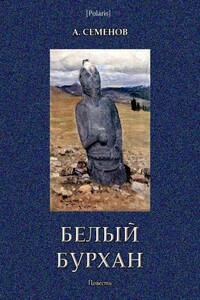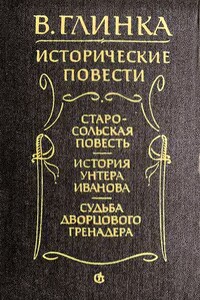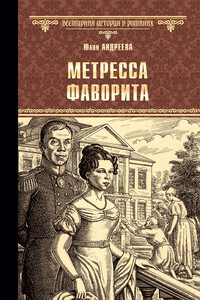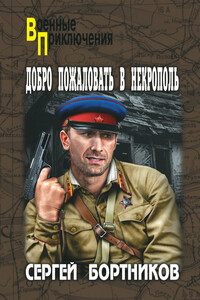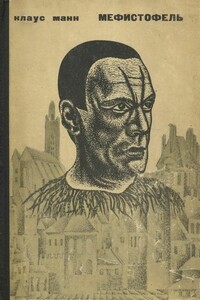В комнате было темно, только от двери тянулась тонкая полоса света. Полоса света исчезла, когда кельнер беззвучно закрыл за собой дверь.
— Куда прикажете поставить поднос? — спросил кельнер. Прошло несколько секунд, но из темноты не было слышно ни звука. Кельнер остановился в нескольких шагах от двери в выжидательной позе. После того как он деликатно, но все же настойчиво откашлялся, неподвижно лежащий в постели господин, до подбородка укрытый одеялом, ответил:
— Пожалуйста, сюда, рядом с кроватью, сюда, на столик, голубчик…
Он говорил по-немецки мягко, с певучим акцентом. Кельнер улыбнулся. Ему нравилось обслуживать иностранцев. То, что они с трудом изъяснялись на языке, которым он владел свободно, наполняло его приятным чувством превосходства.
— Прошу, сударь, — проговорил он, и в голосе его слышался легкий оттенок отеческой заботы. Он сделал пару шагов к постели и, придвинув круглый столик, поставил на него поднос.
— Прикажете раздвинуть шторы, сударь? — спросил он, отчетливо выговаривая каждое слово: ведь он имел дело с иностранцем, с пожилым обладателем мягкого голоса, относиться к которому следовало снисходительно и в то же время почтительно, чтобы можно было рассчитывать на чаевые.
— Спасибо, — ответил господин, не шевелясь под стеганым одеялом. — Будьте так любезны, раздвиньте их только наполовину. Я не выношу яркого света, — добавил он с некоторой тоской в голосе, наконец поворачивая голову, чтобы взглянуть на кельнера.
Тот в свою очередь принялся плавными движениями, напоминающими движения человека, ухаживающего за больным, раздвигать тяжелые бархатные шторы. Комната наполнилась светом, и господин в постели непроизвольно зажмурился. Прищуренный взгляд его окинул царящий в этом незнакомом гостиничном номере беспорядок: полураспакованные чемоданы, предметы одежды и книги, как попало брошенные на плюшевое кресло и на комод в стиле ренессанс. «В хорошеньком же состоянии я, должно быть, прибыл сюда вчера вечером, — подумал он. — Ах, разумеется, выпитый в дороге коньяк…» Он с отвращением закрыл глаза.
— Сегодня прекрасный день, — проговорил кельнер строго и в то же время подобострастно. — Чудесный зимний день, — добавил он ободряюще, поскольку иностранец продолжал молчать.
Это не было хорошо знакомое кельнеру строгое и недружелюбное молчание, скорее печальное, беспомощное, чуть ли не робкое. На этом основании кельнер решил обращаться с приезжим как с ребенком. Он энергично и поучительно произнес:
— Вот здесь, рядом с чайником, ваша утренняя газета. — Выдержав небольшую паузу, он не без строгости добавил: — Желает ли сударь немедленно закрыть вопрос?
Приезжий не сразу его понял. Он в некоторой растерянности смотрел на кельнера, стоящего перед ним, высокого и стройного, напоминающего в своем лоснящемся фраке офицера прусской гвардии. Под удивительно проницательным, печально-задумчивым взглядом темно-синих глаз незнакомца подтянутый молодой человек непроизвольно смягчился.
— Угодно ли сударю сразу заплатить? — переспросил он, слегка поклонившись.
Незнакомец приподнялся на локте и торопливо выдвинул ящик ночного столика, в котором среди бумаг лежала серебряная мелочь.
— Ах, разумеется, — ответил он, — конечно, пожалуйста, сколько?.. — Неловкие движения, которыми незнакомец выгребал лежавшие между конвертами, блокнотами и нотными листами деньги, вызвали у кельнера чувство, похожее на умиление. При этом он прекрасно сознавал, что в его социальном положении такого умиления он себе позволить не может, тем более по отношению к некоему странному приезжему.
— Завтрак в номере стоит три марки, — выпалил он, при этом в светлых глазах его промелькнула дерзкая искринка: названная им цена в три раза превышала действительную. В случае неприятностей всегда можно будет сослаться на недопонимание.
— Да, конечно, пожалуйста, — бормотал приезжий, яростно копаясь в выдвижном ящике. Кельнер наблюдал за ним с нарастающей доброжелательностью и с некоторым сочувствием. Редкие, перьями торчащие волосы незнакомца были почти белыми; серо-белого цвета была и довольно коротко подстриженная борода округлой формы, и усы, нависающие над пухлыми, мягкими, ярко-красными губами. Когда, задвинув ящик, приезжий снова приподнялся, лицо его было багрового цвета; он с трудом переводил дыхание.
Он протянул кельнеру две монеты — талер и марку, то есть целую марку чаевых при и без того бесстыдно завышенной цене.
— Дороговато, — заметил приезжий господин и улыбнулся с усталой лукавостью. — Верно, сударь, — ответил кельнер и, к своему собственному удивлению, почувствовал, что краснеет. Он стоял в нерешительности, зажав в руке монеты. Как ни странно, он несколько секунд серьезно обдумывал, не вернуть ли господину часть его денег.
— Вы родом из Берлина? — спросил незнакомец.
Кельнер вновь почувствовал на себе проницательный и печальный взгляд синих глаз.
— Нет, сударь, я из Гамбурга, — сказал он и неожиданно в знак уважения щелкнул каблуками.
— Вот как, из Гамбурга, — повторил приезжий. Он снова неподвижно лежал на спине, но голова его была повернута так, чтобы ему был виден его молодой собеседник. — В Гамбург мне тоже вскоре предстоит поехать; это красивый город.