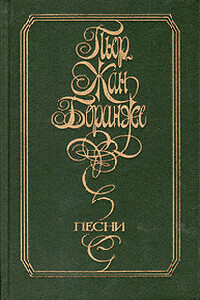Раннее утро плывет над миром вместе с напевами муэдзинов[1]. Они перемешиваются в едином желании донести до Белого Города весть о том, что наступил новый день. Первые минуты непрожитой пока жизни, той, которая до мелочей повторит вчера, но будет совсем-совсем иная. Мне пора вставать – и я радуюсь, что выйду из дома и меня расцелует своей свежестью нежно-голубое утро Касабланки[2].
Это белый город стал Моим Белым Городом не сразу, ибо я была слишком самонадеянна. В самый первый раз, подъезжая к нему на междугороднем автобусе «Агадир – Каза»[3], я, повидавшая на своем веку много стран и городов, сказала себе и ему, лежавшему внизу, в долине, как будто бы совсем у моих ног: «Привет, я буду здесь жить и одержу победу над обстоятельствами! Я преуспею здесь, а ты, надеюсь, поможешь мне в этом…»
О нет! Он не собирался мне помогать. Поначалу он еще был гостеприимен, как это случается во всех марокканских семьях. Поил меня приторно-сладким мятным чаем со вносящей милую горчинку полынью, водил по Медине[4], помог накупить кожаных верблюдов с тупыми мордочками и золотые серьги, поразительной красоты и по поражающей цене, окунул с головой в шипящую пену Атлантики, в это божественное живое существо, я сразу поняла, что и оно одушевленное, совсем как мой Белый Город…
А потом он, тот хозяин, что приютил меня, да-да, лишь приютил, а не принял желанной женой, стал открывать мне свою голую, безобразную правду. Другую строну своей по-восточному аляповато сработанной медали. Эта правда обрушилась на меня чередой одиноких дней в популярном районе[5] Казы, воняющими помойками, невежеством местных жителей, вульгарностью и коварной хитростью женщин, а главное – болезненной невозможностью выходить из дома одной. Мне не с кем было даже поговорить, а хотелось кричать! Ну а если бы я и поддалась этому отчаянному желанию, то кто бы понял всю мою боль?
Марокканская дарижа[6] никак не могла уложиться в моей по-лингвистически правильно скроенной голове. Это наречие, кажется, содержит в себе звуки всего русского мата, слова произносятся грубо, с подхаркиванием и украинским гэканьем. Я не могла ни освоить его, ни тем более полюбить. Свекровь жутко злилась, поднимала черную бровь и ядовито рассказывала ежедневным гостям о том, что ее русская невестка наконец-то уже умеет говорить «саламалейкум» и «шукран»[7]…
На Востоке есть такая поговорка: «Если Аллах закрывает одну дверь, он тут же открывает другую». Я сдалась и уехала из Белого Города в серую февральскую Москву, увозя в чемодане два килограмма ярко-оранжевых мандаринов…
Но незаметно для себя я все же подцепила вирус любви. По ночам мне стали сниться зеленые пальмы, увитые плющом, торговцы водой, носящие красно-желтые хламиды и шляпы с зелеными висюльками, требующие пять дирхам, чтобы сфотографироваться рядом с ними. Совсем как наяву я видела нашу шумную, безалаберную улицу, по которой я столько раз проходила с тоской и желанием убежать, и я шептала во сне «кен хэббек»[8]… Я дала себе слово, что вернусь. И вернулась.
После долгой разлуки я снова увидела Касабланку ночью, с высоты птичьего полета, когда самоуверенный аэробус кружил над спящим Белым Городом, заходя на посадку. И теперь я смотрела в иллюминатор и шептала совсем другие слова: «Здравствуй, родной, пожалуйста, прими меня, сделай своей дочерью или своей возлюбленной. Я отдаюсь в твою власть и надеюсь на твою снисходительность…»
Возможно, и я, и Белый Город были гораздо лучше подготовлены к этой новой встрече. Он помыл голубые ставни на домах, высушил их вездесущим горячим солнцем, а я стала терпимей или мудрей, окончательно осознав свою привязанность к Востоку. Так, я прожила здесь уже десять лет. Вернулась к мужу, нашла работу, обзавелась подругами. Марокко овладел моим сердцем, и я наконец-то смогла назвать его Моим Городом…
* * *
Как это было у бессмертной героини Нонны Мордюковой? «Ну хорошо, тогда Стамбул – город контрастов». Больших контрастов, чем в Касабланке, наверно, не найти нигде. Она не просто разная, она и мне позволяет быть разной. Проживаю здесь множество жизней, играю множество самых неожиданных ролей.
Вот я натягиваю желябу[9], покрываю голову платком, маскирую серые глаза темными очками и отправляюсь на Кесарию или сок[10], легко торгуюсь с продавцами, возмущаюсь высокими ценами, смеюсь их лукавым шуткам, а они, чувствуя легкий акцент в моей речи, думают, что я берберка[11], ведь рядом со мной балуются два черноглазых ребенка. Я ухожу довольная, купив полтумана по рублю…
В иные дни я становлюсь спешащей деловой женщиной, обнажаю свою короткую стрижку, подкрашиваюсь, надеваю строгий костюм, сажусь в машину и еду на работу. На моем языке перекатываются французские слова, сочные и влажные. Со времен Протектората[12] французский стал вторым языком образованной части марокканского общества. Мне в них очень уютно, и в языке, и в обществе. Кого я изображаю сейчас? Я и сама не знаю. Француженку ли, англичанку, испанку… Встреченные мной люди высказывают разные предположения. В любом случае, я – работающая дама, что очень ценно на Востоке. Благо таких в деловом центре Касабланки во время ланча уже много…