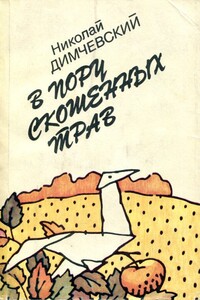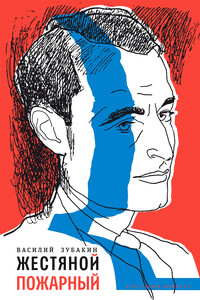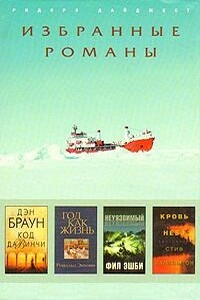Четверг, 10 августа
Письмо принес ветер рамадана,[1] хотя тогда я, конечно, этого еще не знала. В августе в Париже часто дуют ветры, и тогда кажется, что по пыльным улицам носятся маленькие дервиши,[2] одетые в лохмотья; они скользят по тротуарам и что-то ищут, оставляя на щеках и ресницах прохожих колючие сверкающие песчинки; а солнце пялится на них с небес, точно белый подслеповатый глаз, и жара стоит такая, что люди начисто лишаются аппетита. В августе Париж почти вымирает; живы только туристы да несчастные вроде нас, которые не могут себе позволить даже в отпуск уехать; в августе от Сены исходит зловоние, и тени нигде не найти, и ты, кажется, готов на все, лишь бы вырваться из раскаленного города и побродить босиком по полю или посидеть в тенистом лесу.
Ру все это, конечно, хорошо понимает. Он вообще для городской жизни не создан. А Розетт, когда ей скучно, начинает творить всякие пакости; я же упорно делаю из шоколада всякие сласти, которые некому покупать. Анук целыми днями пропадает в интернет-кафе на улице Мира, болтая с друзьями в «Фейсбуке», или поднимается на Монмартрское кладбище и наблюдает за бездомными котами, что скользят и прячутся среди каменных домов мертвых, и солнечный свет, падая, как лезвие гильотины, узенькой полоской разрубает густую тень между соседними гробницами.
Анук пятнадцать. Куда уходит время? Так же, потихоньку, испаряются из флакона духи, как бы плотно ты ни закрывала его пробкой; а однажды ты возьмешь флакон в руки и увидишь, что на дне осталась лишь капелька душистой жидкости, хотя тебе казалось, что ее там еще много…
Как тебе живется, моя маленькая Анук? Что происходит в твоем, неведомом мне, маленьком мире? Счастлива ли ты? Или душа твоя не знает покоя? А может, ты всем довольна? Сколько еще дней осталось у нас с тобой до той поры, когда ты навсегда покинешь мою орбиту и, стремительно улетев в космические дали, точно сорвавшийся с поводка спутник-бродяга, исчезнешь среди звезд?
Подобная череда мыслей посещает меня отнюдь не впервые. Страх следует за мной как тень еще с тех пор, как родилась Анук, но нынешним летом мой вечный страх стал как-то особенно силен, расцвел на этой жаре, словно некий чудовищный цветок. Возможно, это связано с воспоминаниями о моих матерях — о моей первой, покойной матери и второй, настоящей, которую я обрела всего четыре года назад. А может, всему виной Зози де л’Альба,[3] похитительница сердец, чуть не лишившая меня всего, что у меня есть? Она так ярко продемонстрировала, сколь хрупка наша жизнь, как легко разрушить твой тщательно выстроенный карточный домик — для этого хватит даже малейшего вздоха ветра.
Пятнадцать. Пятнадцать. В ее возрасте я уже успела вдоволь постранствовать по свету. И знала, что моя мать скоро умрет. И слово «дом» означало для меня тогда всего лишь место, где мы в этот раз остановились на ночлег. И у меня еще никогда не было настоящего друга. А любовь… любовь моя в то время была похожа на светильники, что зажигают по вечерам на террасах кафе; я воспринимала ее как источник мимолетного тепла, как нежное прикосновение, как чье-то лицо, которое едва успела разглядеть при свете горящего костра.
Анук, надеюсь, будет иной. Она уже и сейчас очень красива, но пока что об этом не подозревает. Но однажды она влюбится — и что тогда будет с нами? Но пока, уговариваю я себя, время еще есть. Пока в жизни Анук есть только один друг — Жан-Лу Рембо; обычно они неразлучны, но в этом месяце ему пришлось лечь в больницу. Жану-Лу предстояла очередная операция, у него тяжелый врожденный порок сердца; Анук никогда об этом не говорит, и я прекрасно понимаю ее страх, ибо он подобен моему собственному. Этот страх — точно темная тень; он подкрадывается к тебе и шепчет, шепчет: ничто не вечно!
О Ланскне Анук до сих пор порой вспоминает. Хотя в Париже она, в общем, вполне счастлива, но он кажется ей скорее долгой остановкой на пути, что ею еще не пройден, чем домом, в который она всегда будет возвращаться. Разумеется, наш плавучий дом — дом не совсем настоящий; ему не хватает убедительности каменной кладки, скрепленной известковым раствором. Вот Анук и вспоминает — в самом что ни на есть розовом свете, с забавной ностальгией, свойственной в основном маленьким детям, — маленькую chocolaterie[4] напротив церкви, полосатые маркизы над окнами и ею самой нарисованную вывеску. И взгляд у нее такой тоскующий, когда она говорит со мной об оставленных в Ланскне друзьях, о Жанно Дру и Люке Клермоне, и о том, что там по улицам даже ночью никто ходить не боится, а двери в домах никогда не запирают…[5]
Понимаю, мне не следовало бы особо тревожиться. Характер у моей маленькой Анук, конечно, скрытный, но в отличие от большинства своих приятелей она по-прежнему с удовольствием общается с матерью, то есть со мной. И все у нас с ней пока что хорошо. А бывают и совсем чудесные дни, когда мы остаемся только вдвоем и, забравшись в кровать вместе с Пантуфлем — его я воспринимаю краешком глаза, как некое расплывчатое пятно, — устраиваемся перед экраном портативного телевизора; на экране мелькают загадочные тени и образы, за окнами уже темно, а Розетт и Ру сидят на палубе и, точно рыбу, ловят звезды в безмолвной Сене.