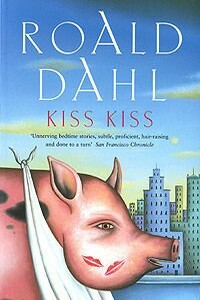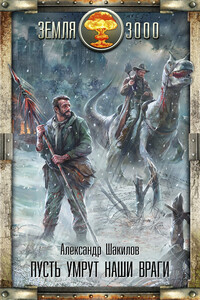Теперь-то я понимаю, что человек, в чей кабинет я зашел впервые, когда мне было двенадцать лет, и который тогда показался мне ветхим, вовсе не был таким старым. Я рос, а он, казалось, все молодел и молодел до тех пор, пока в моем воображении человек, к которому я пришел впервые, не оказался гораздо старше, чем тот, которого я впоследствии посетил. По датам его рождения и смерти видно, что я ошибался. В момент нашей первой встречи ему было 55 лет. Когда я увидел его в последний раз, ему было 65 лет, а умер он в 83-летнем возрасте. Может быть именно поэтому и стали писать летописи, чтобы субъективное восприятие окружающего мира, вроде моего, не насмехалось над Временем.
Моя мать обслуживала его. И иногда, пока она скребла полы или натирала до блеска мебель, я направлялся в его кабинет в огромном доме в районе Сент-Джонз-Вуд [* Район на севере Лондона] и усаживался на стуле перед письменным столом. Закончив работу, мать всегда стучала в дверь кабинета три раза, но никогда не открывала ее и не заходила туда. Стоило только раздаться стуку в дверь, как он тут же замолкал, даже не закончив предложения, и сразу отпускал меня, будто в дверь постучалась судьба.
Заглядывая в прошлое, я могу гораздо яснее мысленно увидеть комнату, нежели его самого. На самом деле сейчас, чтобы представить в своем воображении, как он выглядел, я должен сперва устремить свой взгляд на огромные книжные шкафы с застекленными дверцами, за которыми прячутся книги в кожаных переплетах, затем — на паркетный пол, на котором где попало лежат восточные коврики, словно их кто-то швырнул через всю комнату, и они только что приземлились, потом — на стол с блестящей, словно озеро, поверхностью и элегантно загнутыми ножками, за которым он по обыкновению сидел. Наконец, взгляд застывает на нем самом: голова у него лысая и хрупкая, словно яйцо всмятку; большие залитые кровью глаза были похожи на стеклянные шарики из моей тогдашней коллекции. У него был тонкий нос. Когда он разговаривал, его чувственный рот едва шевелился. Резонанс в кабинете был настолько хорошим, что когда он говорил со мной своим низким густым голосом, мне казалось, если я закрывал глаза, что со мной разговаривала комната. Впрочем, если бы я был честным, то признался бы, что приходил смотреть кабинет, а не к нему. Как только я переступал его порог, я заново ощущал свою личность: подобно тому, как чувствуешь только что надетую чистую одежду. Но стоило мне покинуть кабинет, жизнь забирала все назад, и я опять осознавал себя лишь поношенным костюмом, висящим на плечиках в комиссионном магазине.
По-английски он говорил свободно, хотя был немец; в Англии, по его словам, он никогда не работал — только в Австрии. На мой вопрос «Почему?» и попытки узнать, чем же он раньше занимался, вместо ответа звучали начальные такты Первой симфонии Брамса, которые он напевал, когда бы я ни спросил его что-то о нем самом. (Тогда я не знал, что это был Брамс. Я понял это лишь гораздо позднее, когда я практически перестал о нем думать, на концерте в лондонском зале Ройял- Фестивал-Холл. Эта мелодия была настолько неотъемлема от него и той комнаты что, услышав ее на концерте, я испытал что-то вроде шока и подумал, что композитор грешен в плагиате.) Зная его мнения об Англии, мировой политике, книгах и музыке, я ничего не знал о нем самом.
Пока я был мальчиком, отсутствие такой информации меня совершенно не беспокоило. Однако по мере того, как я взрослел, меня это стало все больше задевать и я чувствовал себя обманутым, словно его скрытность даже что-то похитила из моей собственной личности.
Всякий раз, когда я приходил к нему в кабинет, мой взгляд неизменно останавливался на предмете, который поражал мое воображение. Он покоился под стеклянным колпаком на одном из книжных шкафов и вначале я думал, что это чучело какого-то зверя или птицы. Но потом я понял свою ошибку: у него не было ни головы, ни ног, ни крыльев, ни клюва. Затем мне в голову пришла мысль, что может быть это была священная реликвия: скальп святого, или, как мне казалось в моменты нечестивости, — следствие моего полового созревания, — волосяной покров более интимного органа. Я так и никогда не набрался смелости спросить его, что же это, но с тех пор у меня появилась масса времени детально изучить его, поскольку, согласно его завещанию, я унаследовал его вместе с большой коллекцией рукописей. Это был его парик.
Наконец я узнал, что он был актером, и лучше всего ему удавались роли в легких романтических комедиях. Поскольку я преподаю немецкий язык в небольшой частной школе, мне не составило никакого труда прочитать все тексты пьес, в которых он играл. Я попытался представить себе, услышать смех, который они вызывали. У меня ничего не вышло. Чтобы эти лживые, заезженные представления картин человеческого бытия с неуклюжими каламбурами и немыслимыми ситуациями могли кому-то показаться забавными, — выше моего понимания. И тем не менее, у них был успех. Ведь большинство пьес, в которых он участвовал, долго не сходили со сцены. Он даже пометил места в текстах, где смех должен был быть продолжительным, и большим триумфальным почерком отметил моменты своего ухода со сцены в сопровождении бурных аплодисментов. Эти страницы были проводником его удач: тут и женатые мужчины, влюбленные в служанок, и холостяки, увлеченные замужними женщинами, и перевлюблявшиеся между собой супружеские пары. В этих рукописях, которые были своего рода сексуальной алгеброй, нашли отражение все возможные эмоциональные перестановки, с которыми можно столкнуться в жизни.