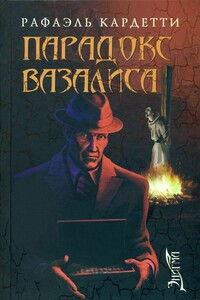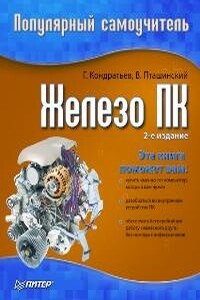Альбер Када был человеком тихим и скромным. Вопреки глубоко укоренившемуся университетскому обычаю, он никогда не стремился к известности. Он не питал склонности к полемике и ни разу в жизни не высказывался громче своего собеседника. Вероятно, именно в этой черте его характера следует искать причину, по которой судьба не вознесла его на те вершины, для которых он, как казалось, был предназначен.
Не успел Альбер отпраздновать восемнадцатилетие, как неугомонный ум и жажда знаний открыли перед ним двери Эколь Нормаль Сюперьёр [1] Тремя годами позднее он направился в Оксфорд, где успешно написал докторскую диссертацию, посвященную «Доктрине категорий в учении Дунса Скота», которую прославленный Фрэнсис Йейтс назвал в день ее защиты «базилярным камнем хрупкой системы Скота».
Несмотря на прочную репутацию человека светлого ума (а скорее именно по причине таковой), место заведующего кафедрой средневековой философии Сорбонны [2] Альбер Када прождал долгие десять лет. Наиболее шустрые из его однокашников давно уже делились знаниями с молодежью в престижных учебных заведениях, усердно посещая издательства и министерские коридоры, поэтому в день, когда Када получил назначение на должность, к радости примешалась немалая доля горечи, ставшей вечной его спутницей.
На закате карьеры Альбер Када воспринимался всем университетским сообществом как живой анахронизм. Он принадлежал к той древней расе исчезнувших из аудиторий многие годы назад эрудитов, которые способны без всякой предварительной подготовки расшифровать гностический манускрипт одиннадцатого века или процитировать по памяти целые абзацы из «Summa theologica» Генриха Гентского.
При всем том в повседневной жизни эта невероятная масса познаний давила на него обременительной ношей. Энциклопедический ум Альбера не позволял жить в согласии с тем обществом, в котором он обитал. Интернет и цифровая революция были так же чужды ему, как и большинство вверенных его попечению студентов.
Последние, впрочем, тоже оставались безучастными к его лекциям, поэтому Альбер Када расточал знания перед на три четверти пустыми аудиториями, единственными слушателями в которых были рассеянные по галерке сонливые учащиеся, по всей видимости, лишь из-за чрезмерной лености не пожелавшие присоединиться к своим товарищам в экспериментальных кинотеатрах квартала или на скамейках Люксембургского сада.
Его редкие последователи выходили с занятий изнуренными, с таким чувством, словно за два часа перед ними с ошеломляющей быстротой пронеслась вся западная культура. Заметно сутулясь, словно под несоразмерной тяжестью возложенных на слабые плечи знаний, пожилой профессор мог в одну и ту же фразу так ловко ввернуть имена Уильяма Оккама и Жиля Делёза, что это их соположение отнюдь не выглядело педантским или искусственным. В такие моменты вдохновения голос его воодушевлялся, и слушатели почти забывали, из сколь тщедушного и дряблого тела он исходит.
Разрыв Альбера Када с университетским миром принял тонкую, почти неосязаемую форму. Со временем профессор окончательно перестал посещать коллоквиумы и семинары. Преподавание он свел к минимуму, сосредоточившись на горстке студентов, которые продолжали работать под его началом. Имя его все реже и реже появлялось в специализированных журналах, а когда и вовсе из них исчезло, и это не вызвало у коллег ни малейших эмоций.
Сфера его профессиональных интересов не распространялась за пределы тех трех этажей, что вели к кабинету, расположенному под самой крышей, но Альбер Када давно уже осознал, что не в этом главное.
Разумеется, порой стреляющая боль в груди напоминала о почестях, которыми он мог быть окружен. Однако нескольких рюмок выдержанного арманьяка оказывалось достаточно, чтобы задвинуть это мрачное чувство в отдаленные уголки мозга. С затуманенной алкоголем головой, он вытягивался тогда на кровати и читал вслух любимый отрывок из «Исповеди» Августина Блаженного: «Verum tamen tu, medice meus intime, quo fructu ista faciam, eliqua mihi». [3]
Как и его вдохновитель, Альбер Када нуждался в том, чтобы ему указали путь, которым должно следовать. К несчастью, в его случае Бог доказал свою полную бесполезность. Он зашел в дали столь неизведанные, что никто не мог помочь ему из них выйти, даже Господь, сколь всемогущим бы тот ни был.
В глубине души Альбер Када понимал, что попал в безвыходное положение, выбраться из которого ему не по силам. Будь такая возможность, Альбер Када охотно вернулся бы на тридцать лет назад, в то время, когда он еще не знал, куда заведут его искания.
Одно уже то, что он десятки лет разделял мысли и озарения стольких великих умов только для того, чтобы на закате жизни не иметь иной прочной опоры, могло показаться смешным, но признание сего факта пробуждало в нем лишь ужасающее ощущение бессилия и пустоты.
В данный момент, однако, подобные метафизические соображения Альбера Када интересовали мало.
Он думал лишь о том, что должен бежать еще быстрее.
Грубым жестом он отстранил двух дежуривших у входа в Сорбонну охранников в синей униформе и фуражках, для которых его отказ от обычной медленной и степенной походки стал подлинным откровением. Со съехавшим набок галстуком, Альбер Када, извиняясь, безотчетно помахал им рукой и побежал дальше по просторному мощеному двору, среди кишащей толпы студентов, спешивших в аудитории на первые послеполуденные лекции.