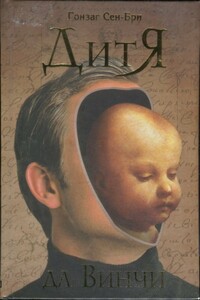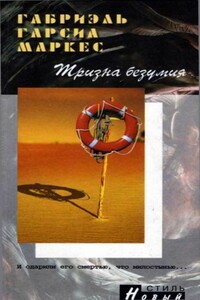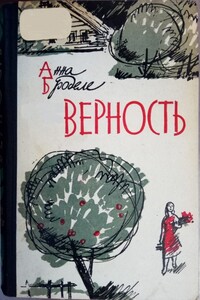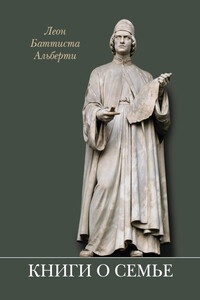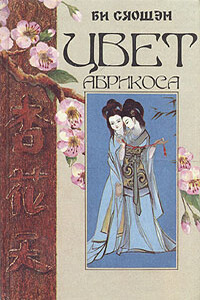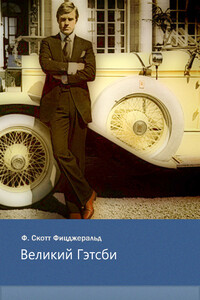Когда дождь прекратился, небо на западе пожелтело и стало прохладно. По самой бровке рыжей грунтовой дороги, вдоль которой стояли дешевые бунгало, построенные еще в 1910 году, катил малыш на огромном велосипеде. Его катание завораживало своей монотонностью. Он проезжал около ста ярдов, спешивался, разворачивал велосипед, прислонял к парапету, снова влезал на него и, не торопясь, без устали возвращался туда, где его ждала цветная девочка лет четырнадцати с худосочным ребенком на руках. Другим его конечным пунктом был заморенный, весь покрытый струпьями котенок, печально скорчившийся на обочине. Кроме этих четверых, вокруг не было ни души.
Эти бесчисленные путешествия туда-сюда, безразличные к миру, как меланхолическая обреченность котенка на одном конце и удивительная праздность цветной девочки на другом, закончились разом, когда мальчику пришлось резко и опасно вильнуть, дабы не врезаться в незнакомца, появившегося из-за угла. Малыш ужасно испугался и только через несколько секунд смог восстановить равновесие.
Но если для мальчика это происшествие обернулось борьбой с земным притяжением, оно едва ли заинтересовало пришельца; тот сразу отвернулся и с явным и каким-то особенным интересом принялся разглядывать дом напротив. Это был самый старый дом на улице, обшитый досками и крытый черепицей. Это был дом в самом настоящем смысле слова — дом, который ребенок мог бы нарисовать мелом на доске. Его построили в духе своего времени, но по плохим чертежам — достойный фасад, ясное дело, был призван скрыть содержимое. Дом был лет на тридцать старше соседей и выделялся среди этих оштукатуренных бунгало, которые множили свой род с удивительной жадностью, словно заключили чудовищный союз с морскими свинками. Таких построек было великое множество по всей стране. Тридцать лет подобные обиталища отвечали вкусам среднего класса, соответствовали их финансовым возможностям, поскольку были дешевы, соответствовали их эстетическим канонам, поскольку были отвратительны. Этот дом возвела раса, чье самое великое свершение грозило подняться еще выше или пойти еще дальше, и самое удивительное, что дом этот, при всей нестабильности, пережил множество лет и зим, сохранив и первоначальное уродство, и неудобства неизменными.
Человек был приблизительно того же возраста, что и дом, лет сорока пяти. Но в отличие от дома он не был ни уродлив, ни дешев. Его костюм выглядел слишком хорошо, чтобы быть сшитым в провинции, более того, он был настолько хорош, что невозможно было определить, в какой столице мира его сшили. Звали человека Аберкромби, и самое главное событие его жизни произошло в том самом доме, перед которым он стоял. В этом доме он родился.
И меньше всего ему хотелось бы родиться здесь. Так думал он вскоре после этого события, и так он думал сейчас — где угодно, но не в этом уродливом жилище в третьесортном южном городке, где его отец на паях владел бакалейной лавкой. С тех пор Аберкромби довелось играть в гольф с президентом Соединен ных Штатов и сидеть за обедом меж двух герцогинь. С президентом было скучно, скучал он и с герцогинями, ничуть перед ними не робея. Тем не менее эти эпизоды развлекли его и до сих пор нежно щекотали его наивное тщеславие. Он упивался тем, что так высоко взлетел.
Несколько минут он пристально смотрел на дом, пока до него не дошло, что там никто не живет. Жалюзи на окнах не были опущены, потому что жалюзи на окнах не было. Из этих пустот слепая гладь серого стекла смотрела на него отсутствующим взглядом. Трава в палисаднике разрослась безудержно высоко, и обморочно-зеленые усики игриво проклюнулись из широких трещин дорожки. Но собственность эта еще недавно была обитаема, ибо на пороге лежало с полудюжины газет, для удобства свернутых в трубочку, и пусть успевших поблекнуть, но несильно, лишь до возмущенной желтизны.
Впрочем, когда Аберкромби ступил на порог и присел на видавшую виды скамейку, оказалось, что желтизне этой далеко до неба на закате, явившего все оттенки желтого: цвет загара, золотой, персиковый. На другой стороне улицы за пустой парковкой возвышался бастион ярко-красных кирпичных домов, и Аберкромби это зрелище казалось восхитительным — теплый земной кирпич и небеса, чистые после дождя, изменчивого и сумрачного, как сон. Всю жизнь в поисках отдохновения он призывал эти образы, будто сотворенные лично для него, когда воздух был чист, точно так, как сейчас. Он сидел на порожке, вспоминая молодость.
Десятью минутами позднее из-за угла появился еще один человек, но человек иного сорта — и по покрою одежды, и по покрою души. Ему было сорок шесть, обносившийся работяга, женатый на той, что в девичестве знавала лучшие дни. Последний факт следовало бы выделить красным курсивом отверженности.
Звали его Хэммик — то ли Генри У., то ли Джордж Д., а может, Джон Ф. — породившему его племени не хватило воображения ни для его имени, ни для устройства его тела. Хэммик служил клерком на фабрике по изготовлению льда для нужд долгого южного лета. Он подчинялся человеку, владеющему патентом на производство консервированного льда, а тот, в свою очередь, подчинялся только Богу. Генри У. Хэммик так и не открыл нового способа рекламы консервированного льда, даже после того, как усердно и втайне от всех прошел заочный курс по технологии его производства, рассчитывая войти в долю с хозяином фабрики. И ему так и не довелось мчаться домой, крича жене: «Можешь нанять служанку, Нель, меня назначили генеральным директором!» И надо принимать его так же, как Аберкромби, ибо таковы они есть и пребудут. Типичная история застойного времени. Запле тающейся походкой вновь пришедший направился к дому, заметил незнакомца Аберкромби и, устало удивившись, кивнул ему: