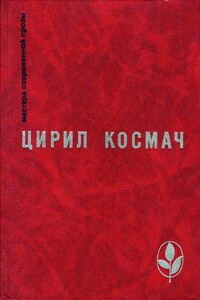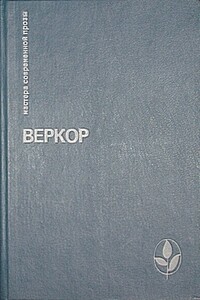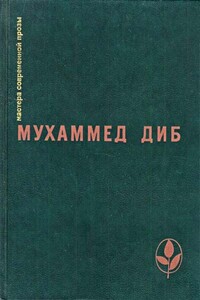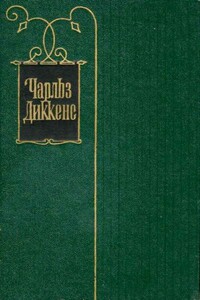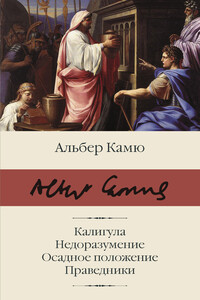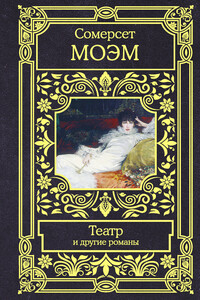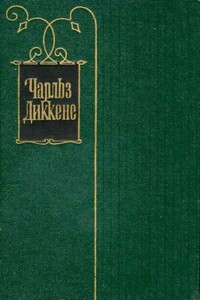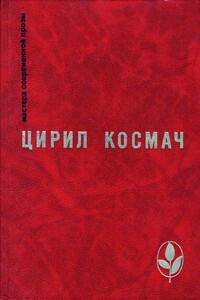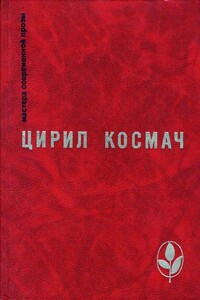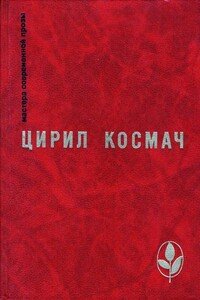Каждому известно, как нелегко пробыть целый день и весь долгий вечер с близким человеком и не касаться в разговоре вещей, которые у обоих на сердце. Так случилось со мной, когда я после пятнадцатилетнего отсутствия посетил свое родное село под Толмином; брата и сестер разбросала война — они были кто в Италии, кто в Германии, а нашего отца убили в Маутхаузене — и ему уже никогда не вернуться.
В нашем опустевшем доме над Идрийцей жила тетка, сестра матери, которую мы в детстве здорово не любили, потому что была она сухой, суровой и набожной женщиной и к тому же настолько скупой, что ей было жалко даже дыма, выходившего из трубы, как говорил ее брат, наш остроумный дядюшка Нац, несмотря на тяжелую жизнь сохранивший веселый нрав и золотое сердце. Тетка многие годы прослужила в Горице у какой-то графини, которая принадлежала к побочной и к тому же усохшей ветви некогда могущественного рода Аттемсов: на этой службе она совсем отдалилась от живой жизни и высохла телом и душой. Приезжая навестить сестру, она для нас, семерых детей, привозила семь картинок с изображением Святогорской матери божьей и горстку старых пряников, отдававших плесенью; она называла нас язычниками за то, что мы не целовали пряников, прежде чем начать их грызть, и рассказывала нам об адовых ужасах так неумно, как это могут делать только закоснелые святоши, которым даже во сне не привидится, сколько сомнений живет в проницательной детской душе. Мама спешила увести ее в кухню и там основательно ругала, мол, нечего нас пугать, нам и на этом свете ада хватит.
Правда, мне говорили, что тетя очень изменилась, но все-таки воспоминания пробудились в моей душе, и я ничуть не радовался предстоящей встрече, тем более что произойти она должна была именно сейчас и именно в нашем доме, где я не был столько долгих лет. Я с большим трудом изобразил на лице доброжелательную мину, ожидая, что вначале тетя спросит меня, был ли я прилежным и послушным, всегда ли я молился, а потом… потом, разумеется, примется приторным голосом рассказывать о нашем отце. Она будет говорить и говорить, закатывать глаза, складывать руки и беспрерывно восклицать: «Наш несчастный бедняга!» Разумеется, в этом возгласе не будет ни крупицы любви или сочувствия, одно злорадство, в котором прозвучат отголоски старой теткиной песни: мол, сам виноват, не был прилежным, не слушался ее и не молился.
Этого я и хотел избежать, как извечно избегаем мы холодных и неискренних излияний.
Я никак не мог усидеть на месте. Боролся с плохим настроением и беспокойно слонялся по дому. Шел из кухни в горницу, а из горницы — в сени, потом по крутым шатким ступенькам в сад, оттуда — в амбар, где под закоптелой соломенной крышей хранилось великое множество всякого барахла, в основном того же, что и в мои детские годы: источенные червями прялки, отслужившие свой век горшки и сковородки без ручек, сломанные косилки и рваные рюкзаки, заржавевшие инструменты и даже две черные сгнившие соломенные шляпы деда, которые вот уже тридцать лет после его смерти дожидались, когда же наконец осуществится его утверждение, что через каждые семь лет все обновляется.
Все это я знал и нигде не открыл для себя ничего нового. Оказалось, что моя душа ничего не забыла, и мое тело, которое сначала было неловким, вскоре тоже почувствовало себя уверенным в том жилище, где обитало почти двадцать лет: нога правильно отмеряла высоту порога и ступенек, рука вспомнила все расстояния, так что в темных сенях совершенно уверенно легла на широкую ручку двери, ведущей в горницу, как будто открывала ее каждый день по нескольку раз, а не через пятнадцать лет. В горнице я ощупал стулья, похлопывая их по плечу, как старых знакомых, ласково погладил сундук, который, несмотря на материнские угрозы, мы безжалостно изрезали перочинными ножами, положил руку на потрескавшуюся печь и на фисгармонию, точно так же, как и пятнадцать лет назад, стоявшую за дверью.
«Все, как было», — сообщила мне довольная память.
«Все, — печально согласился я, — только его нет, чтобы оживить эти вещи».
Я вышел из дому и остановился под старой грушей, груша только что отцвела, — весна была поздняя. В мои детские годы здесь была широкая полоса густой светло-зеленой травы, я любил ходить по ней босиком, она мне всегда казалась особенно прохладной и мягкой. Здесь же я получил свои первые серьезные уроки; каждый день после обеда сюда приходил дедушка, расстилал на траве мешок, устраивался на нем, прислонив голову к шероховатому стволу груши, давал мне в руки толстую книгу «Жития святых» и ворчливо приказывал: «Теперь садись и читай, парень!» Я садился, водил пальцами по строчке и читал по слогам: «Свя-той Ан-дрей и-ли так-же близ-нец назван был…» Картина так отчетливо ожила, что я прикусил язык, собиравшийся вслух повторить слова о святом Андрее. Он бы их и повторил, не будь при этом тети, без умолку что-то говорившей.
— Разумеется. Конечно, — с досадой пробормотал я и заторопился в хлев. В хлеву стояла светло-серая корова со сломанным рогом и загнутыми вверх копытами, она изредка забрасывала хвост на свою искривленную спину и упорно жевала жесткое сено с нашего луга. Из хлева я направился в кладовую, пустую, словно перед сбором урожая; знакомый запах плесени ударил мне в ноздри. После кладовой заглянул в сарай, из сарая — в сад, который казался сиротливым и постаревшим, трухлявый деревянный забор оброс мхом и в нескольких местах готов был рухнуть. Когда-то в этом саду у нашей матери было полным полно цветов, а теперь возле ограды поднялась такая буйная крапива, что мне пришлось наклонить голову, когда я шел по дорожке, иначе бы она хлестала меня по лицу. Я вышел из сада, прислонил калитку к столбу, потому что петли давно разъела ржавчина, и перескочил через канаву, где всегда стояла густая навозная жижа. Постояв, направился к горному уступу над домом.