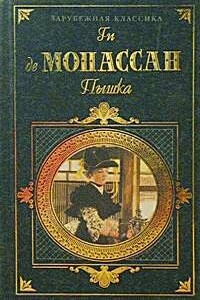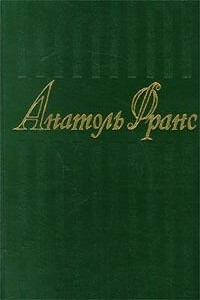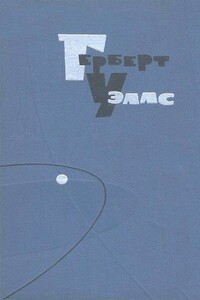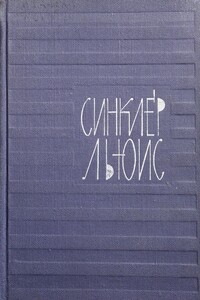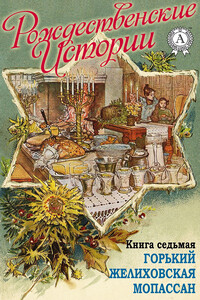Только что пробило двенадцать. Дверь школы растворилась, и мальчуганы, теснясь и толкаясь, бросились на улицу. Но вместо того чтобы сразу же рассыпаться и идти домой к обеду, как обычно, они остановились в нескольких шагах от школы, собрались в кучки и начали перешептываться.
Дело в том, что нынче утром впервые пришел в школу Симон, сын Бланшотты.
Все они слышали у себя дома разговоры о Бланшотте. Хотя на людях ее встречали приветливо, но их матери между собой говорили о ней с презрительным сожалением, которое усвоили и дети, хотя и не понимали, в чем дело.
Симона они совсем не знали: он никогда не выходил из дому и не бегал вместе с ними по улицам деревни или на берегу реки. За это они его недолюбливали. И теперь с некоторым злорадством, хотя не без удивления, они выслушали и повторяли друг другу слова, сказанные одним большим парнем, лет четырнадцати-пятнадцати, который так хитро подмигивал, что, верно, был хорошо осведомлен в таких делах.
– Знаете… насчет Симона… ну, так у него нет папы.
И вот на пороге школы появился сын Бланшотты.
Ему было лет семь или восемь. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, от застенчивости почти неуклюжий.
Он уже направился было домой к матери, но товарищи, все еще перешептываясь и поглядывая на него лукавыми глазами озорников, затеявших нехорошую проделку, мало-помалу обступили его и наконец замкнули в тесное кольцо. Он остановился, удивленный и смущенный, не понимая, что собираются с ним сделать. Парень, принесший новость и гордый достигнутым успехом, спросил:
– Эй, ты! Как тебя зовут?
Он отвечал:
– Симон.
– Симон, а дальше? – продолжал тот.
Окончательно смутившись, ребенок повторил:
– Симон.
Парнишка крикнул ему:
– Человека зовут Симоном и как-нибудь еще… Это не имя – просто Симон.
Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз:
– Меня зовут Симон.
Шалуны расхохотались. Торжествующий парень повысил голос:
– Сами видите, у него нет папы!
Наступила тишина. Дети были поражены таким исключительным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством – у мальчика нет папы!
Он казался им неким феноменом, существом противоестественным, и в душе их росло то презрение, доселе им непонятное, которое их матери питали к Бланшотте.
Симон же прислонился к дереву, чтобы не упасть. Он чувствовал, что его сразило непоправимое несчастье. Он искал слов, чтобы объясниться, опровергнуть ужасное обвинение, будто у него нет папы, – и не мог.
Побелев, как полотно, он наконец осмелел и крикнул:
– Неправда, у меня есть папа!
– А где же он?
Симон замолчал: этого он не знал.
Ребята смеялись и были крайне возбуждены: дети полей, близкие к природе, они следовали тому жестокому инстинкту, который побуждает кур на птичьем дворе заклевывать свою раненую товарку. Симон вдруг заметил маленького соседа, сына вдовы, который тоже всегда бывал только с матерью.
– А ты? – сказал он. – Ведь у тебя тоже нет папы!
– Вот еще, – отвечал мальчик, – у меня папа есть.
– Где же он? – возразил Симон.
– Он умер! – объявил мальчик с гордостью. – Мой папа на кладбище.
Среди ребят пронесся одобрительный шепот, как будто бы то обстоятельство, что отец умер и похоронен на кладбище, подняло в их глазах товарища и окончательно унизило другого, у которого вовсе не было папы. И эти озорники, отцами которых по большей части были грубияны, пьяницы, воры, дубасившие своих жен, сбились в кучу, все более и более суживая круг; казалось, что они, законные дети, хотели сообща задушить незаконного.
Вдруг один из них, стоявший рядом с Симоном, насмешливо показал ему язык и крикнул:
– Нет папы! Нет папы!
Симон обеими руками вцепился ему в волосы, укусил его в щеку, стал пинать его ногами. Произошла страшная свалка. Дерущихся разняли, и Симон очутился на земле, избитый, в синяках, в изодранной блузе, посреди хлопающих в ладоши сорванцов. Когда он поднялся, машинально отряхивая курточку, всю в пыли, кто-то крикнул ему: