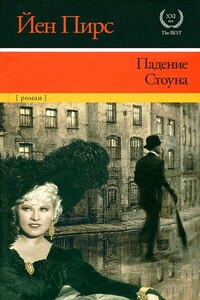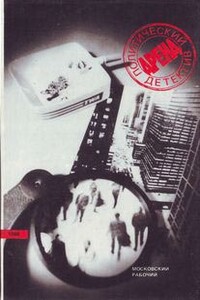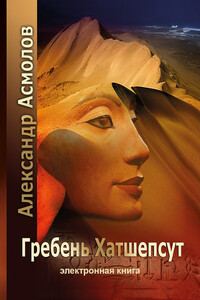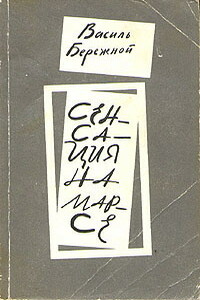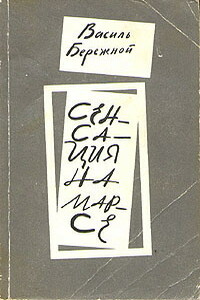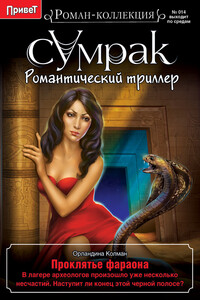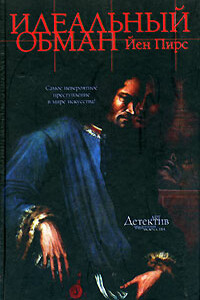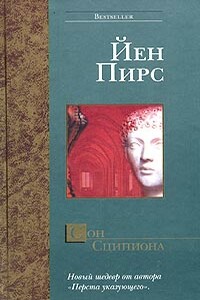Церковь Сен-Жермен-де-Пре в начале так называемой весны была унылым местом и выглядела еще хуже из-за жалкости города, до сих пор не оправившегося от шока, и еще хуже, из-за маленького гроба перед алтарем, причины моего присутствия тут, и, опять-таки хуже, из-за ноющей боли, сводившей все мое тело, пока я стоял на коленях.
Она умерла за неделю до моего приезда. Я даже не думал, что она была еще жива, ведь ей перевалило далеко за восемьдесят, а невзгоды последних нескольких лет подорвали силы многих людей куда моложе ее. На нее это не произвело бы впечатления, но что-то вроде молитвы за нее пришло мне на ум как раз перед тем, как я с трудом снова сел на скамью. Старость не балует благами; и в любом случае унизительность физического страдания, усилие скрывать непреходящую назойливую боль причислить к ним никак нельзя.
Пока утром я не взял в руки «Фигаро» и не увидел извещение, я пребывал в прекрасном расположении духа, ведь я совершал прощальное турне; власти предержащие совместно наскребли достаточно иностранной валюты, чтобы я мог попутешествовать. Мое последнее посещение иностранных бюро перед отставкой. В те дни немногие люди могли позволить себе подобное — как и позднее, пока не были сняты запреты на обмен иностранных валют. Маленький знак уважения, который я высоко оценил.
Служба была недурной, хотя тут я не эксперт. Священники не торопились, хор пел очень мило, молитвы были вознесены, и все завершилось. Краткое надгробное слово воздало должное ее самоотверженным неустанным трудам в помощь обездоленным, но никак не отразило ее характера. Присутствовавшие состояли в основном из свежеумытых и сосредоточенных детей, которых учительницы щипали за уши, если они каким-либо образом нарушали тишину. Я огляделся, проверяя, кто возьмет на себя продолжение, но словно бы никто не знал, что делать дальше. В конце концов заговорил гробовщик. Погребение, сказал он, состоится сегодня в два часа дня на кладбище Пер-Лашез, по адресу номер пятнадцать, Шмен дю Драгон. Приглашаются все желающие. Затем носильщики подняли гроб и промаршировали из церкви, а скорбящие остались в растерянности, окутанные холодом.
— Простите меня, но ваше имя Брэддок? Мэтью Брэддок?
Тихий голос молодого человека, аккуратно одетого, с повязкой черного крепа на руке.
— Я Уайтли, — сказал он. — Гарольд Уайтли. «Гендерсон, Лэнсбери, Фентон». Я узнал вас по телевизионным новостям.
— Да?
— Солиситеры, знаете ли. Мы вели юридические дела мадам Робийар в Англии. Не то чтобы их было много. Я так рад встретить вас. В любом случае я намеревался написать вам по возвращении.
— Правда? Она ведь, полагаю, никаких денег мне не оставила?
Он улыбнулся.
— Боюсь, что нет. К тому времени, когда она умерла, она уже совсем обеднела.
— Господи помилуй! — сказал я с улыбкой.
— Что вас удивляет?
— Когда я был с ней знаком, она же была очень богата.
— Я слышал об этом. Но я знавал ее только милой старушкой со слабостью к достойным благотворительным делам. Однако при наших редких встречах я находил ее очаровательной. Просто обворожительной.
— Да, такой она и была, — ответил я. — Почему вы пришли на похороны?
— Традиция фирмы, — сказал он с гримасой. — Мы погребаем всех наших клиентов. Последняя услуга. Но, знаете, это же поездка в Париж! В наши дни такие случаи выпадают редко. К несчастью, я сумел получить так мало франков, что должен вернуться сегодня же вечером.
— У меня их немножко больше. Так, может быть, выпьем?
Он кивнул, и мы пошли по бульвару Сен-Жермен к кафе мимо угрюмых зданий, вычерненных за век или более дымом и испарениями. Уайтли — в прошлом капитан Уайтли — проявил назойливую склонность стискивать мой локоть в сомнительных местах, чтобы не дать мне споткнуться и упасть. Очень заботливо, но подразумевало одряхление и оттого раздражало.
Отличный коньяк — она заслуживала не меньшего, и мы пили за ее здоровье, сидя на шатких деревянных стульях у окна с зеркальными стеклами.
— Мадам Робийар, — повторили мы несколько раз, становясь более разговорчивыми по мере того, как пили.
Он сообщил мне о жизни в разведке во время войны — тех днях его жизни, сказал он тоскливо, которые закончились навсегда, сменились будничными заботами лондонского солиситера. Я сообщил ему о репортажах для Би-би-си, о Дне Д, о рассказах миру про Блитц. День вчерашний и иной век.
— Кто был ее муж? — спросил я. — Полагаю, он давно умер.
— Робийар умер примерно десять лет назад. Он вместе с ней управлял приютами и школами.
— Вот почему в церкви было столько детей?
— Полагаю, что так. Она основала свой первый приют сразу после войны… первой войны. Осталось так много сирот и брошенных детей. И каким-то образом она занялась ими. К концу приютов было что-то десять — двенадцать. Насколько понимаю, все они содержались согласно новейшим гуманным принципам. Они поглотили все ее состояние, собственно говоря. В такой мере, что их все теперь заберет государство.
— Достаточно достойное применение для него. Когда я знавал ее, она была замужем за лордом Рейвенсклиффом. Впрочем, тому уже больше сорока лет.