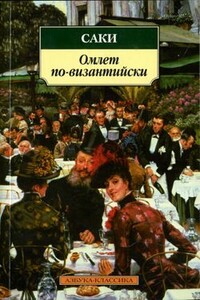– Бог ты мой! – воскликнула тетушка Кловиса. – К нам приближается человек, с которым мне уже приходилось встречаться. Не помню, как его зовут, но он однажды обедал у нас в Лондоне. Ах да! Таррингтон! Он, верно, прослышал о пикнике, который я устраиваю в честь княгини, и теперь прицепится ко мне, точно спасательный пояс, пока я и его не приглашу. Потом спросит, можно ли ему привести с собой всех его жен, матерей и сестер. Вот что значит маленький курорт. Тут ни от кого не скроешься.
– Если вы быстро спрячетесь, я прикрою вас с тыла, – предложил Кловис. – У вас преимущество в целых десять ярдов, если не будете терять время.
Тетушка Кловиса живо прореагировала на это предложение и уплыла, точно нильский пароход, преследуемая пекинским спаниелем, длинной коричневой волной покатившимся у нее в кильватере.
– Притворись, будто не знаешь его, – была ее прощальная инструкция, в которой чувствовалась безрассудная отвага человека, не собиравшегося принимать участие в боевых действиях.
В следующую минуту нащупывания почвы со стороны любезно настроенного джентльмена были встречены Кловисом с тем молчаливо-высокомерным видом, который выражал отсутствие какого бы то ни было предшествующего знакомства с обозреваемым объектом – словно Кортес «застыл на пике Дариена».[1]
– Мне кажется, с усами вы меня не узнаете, – сказал пришелец. – Я их только два месяца отращиваю.
– Напротив, – сказал Кловис, – усы – единственное, что мне кажется в вас знакомым. Мне тотчас показалось, что где-то я их уже видел.
– Меня зовут Таррингтон, – продолжал кандидат на узнавание.
– Весьма небесполезное имя, – сказал Кловис – С таким именем вас вряд ли можно упрекнуть в том, что вы ничего особенно героического или замечательного не совершили, не так ли? И все же, доведись вам вот сейчас, ввиду чрезвычайного положения, возглавить кавалерию, слова «кавалерия Таррингтона» прозвучали бы вполне убедительно и вызвали бы кое у кого волнение, а между тем, звали бы вас, скажем, Спупин, об этом бы и речи не могло быть. Ни один человек, даже ввиду чрезвычайного положения, ни за что не вступит в кавалерию Спупина.
Пришелец слабо улыбнулся, как это делает человек, которого не собьешь с толку болтливостью, и снова заговорил с терпеливой настойчивостью:
– Мне кажется, вы должны помнить мое имя…
– Я его запомню, – произнес Кловис с необыкновенной искренностью. – Только сегодня утром моя тетушка спросила меня, как бы я назвал четырех совят, которых ей прислали в подарок. Я их всех назову Таррингтонами. Если кто-то из них умрет, или улетит, или каким-то иным образом покинет нас, как это умеют делать домашние совы, все равно останутся одна-две, которые всегда будут носить ваше имя. Да и тетушка не даст мне забыть его. Она то и дело будет спрашивать: «Таррингтоны уже поели мышей?» – ну, и еще что-нибудь этакое. Она утверждает, что если уж держишь в неволе диких зверей, то изволь давать им то, чего они требуют, и, конечно же, в этом она права.
– Я однажды встречал вас в доме вашей тетушки за обедом… – вставил Таррингтон, побледнев, но не утратив решимости.
– Моя тетушка никогда не обедает, – сказал Кловис. – Она состоит членом Национальной Лиги Нелюбителей Обеда, которая незаметно и ненавязчиво делает свое доброе дело. Членство в ней, которое обходится в полкроны в квартал, обязывает вас лишить себя девяноста двух обедов.
– Это что-то новенькое! – воскликнул Таррингтон.
– Это все та же тетушка, что и всегда у меня была, – холодно произнес Кловис.
– Я совершенно отчетливо помню, что встречал вас за обедом, который устраивала ваша тетушка, – настаивал Таррингтон, начавший покрываться розовыми пятнышками нездорового цвета.
– А что было на обед? – спросил Кловис.
– Ну, этого я не помню…
– Как это мило, что вы помните мою тетушку и уже не помните названия блюд, которые ели. У меня память совершенно другого свойства. Я долго помню меню после того, как уже забыл имя хозяйки, которая при нем была. Помню, когда мне было семь лет, какая-то герцогиня угостила меня на пикнике персиком. О ней самой я ничего не могу вспомнить, разве что думаю, что мы были едва знакомы, ибо она называла меня «милый мальчик», но меня поныне не покидают воспоминания об этом персике. Это был один из тех роскошных персиков, которые, так сказать, застают вас врасплох, и вы уже ничего вокруг не замечаете. Этот прекрасный неиспорченный плод был выращен в оранжерее, и однако ему вполне удалось выглядеть так, будто его вынули из компота. Можно было и надкусить его, и одновременно высасывать из него влагу. Для меня всегда было что-то чудное и таинственное в мысли о том, как этот хрупкий бархатный округлый фрукт медленно вызревает и наливается теплом до совершенства в продолжение долгих летних дней и благоухающих ночей, а потом вдруг вторгается в мою жизнь в наивысший момент своего существования. Никогда не забуду его, даже если бы захотел. А когда я поглотил все, что было пригодно в употребление, оставалась косточка, которую какой-нибудь другой беззаботный, неразумный ребенок непременно бы выбросил. Я же положил ее за шиворот одному юному другу, на котором был матросский костюмчик с большим вырезом. Я сказал ему, что это скорпион, и, судя по тому, как он извивался и кричал, он явно поверил мне, хотя как только глупому мальчишке могло прийти в голову, что на пикнике можно раздобыть живого скорпиона, не понимаю. И все же счастливое воспоминание об этом персике никогда не покидает меня…