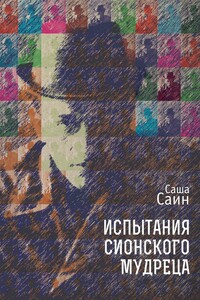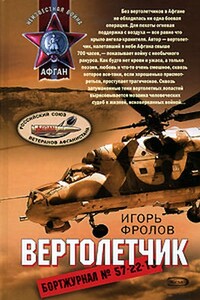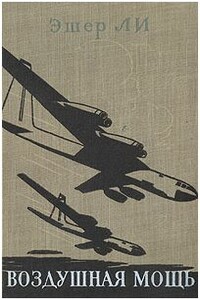Редкие шаги по скрипучему настилу. Что-то громоподобное приближалось тяжелой поступью, предвещая неведанное. Сознание времени оставило нас, стало тревожно и даже жутко. Так шел когда-то Пушкинский командор на вызов Дона Гуана. Оно — это очень неясное, разбрасывало по стенам бесформенные, устрашающие тени, оставляя за собой размытые, скользкие следы. По таким отметинам охотники определяют состояние и намерение зверя. Лапой, несоизмеримой с обычной человеческой рукой, оно — это существо тащило за собой волоком фанерный чемодан в форме гроба. Черные пятна на нем, такое оставляет запекшаяся кровь. Загадочный гремел уже очень близко, раскачивая неспешными шагами дощатый настил барачного коридора.
Оно вошло, квадратное с головы до пят, с ореолом чада желудочно-кишечного перегноя. Под покровом его, поутру в местном сельпо не продохнуть. Перегар жаждущих похмелья накрывает здесь все и всех, прижимая к земле без всякого разбора. По плотности и оттенкам зловонья этого можно безошибочно отбирать своих и неожиданных.
Оно расположилось, огромное, угловатое, плохо владеющее отвисшими руками. Мы ждали, но оно упрямо выпячивало свой загадочный образ, без намерения раскрыться. Стало еще теснее, мы сгрудились, замерли. Обшарив себя, истукан вытеснил откуда-то плоскую, слегка вогнутую, металлическую фляжку. Этому легендарному изобретению военного времени впору посвящать поэмы. На режимных предприятиях, обозванных в СССР «почтовыми ящиками», советские оборонщики проносили в таких емкостях, сваренных из нержавейки, через все зревшие проходные, питейный спирт, предназначенный для промывки точных деталей и узлов военной техники.
Нагрянувший, привычным движением сбросил крышку фляги, хлебнул из нее раз, другой, крякнул, икнул, расчихался, высморкался. Коричневого цвета сопли его местами придавили белоснежную простыню, обозначив на столе тело. Я пригляделся. Вероятно даже великий Дарвин в своей теории «Эволюции» не смог бы предвидеть такой поворот событий: мутацию вида вспять. Он выглядел лет эдак на сорок, чуть больше, чуть меньше, с одиноко полураскрытым, гноящимся глазом в багровых веках. Испятнанное лицо, рыжая торчковая щетина бороды, мимо куда-то исчезнувшего лба, заканчивалась почти у темени, должно быть бровями. Синюшный, плоский нос зависал над всем остальным, что-то напоминая. Ноздри его нервно вздрагивали, в черной глубине разинутого рта колебался зеленый язык. Десна с провалами, вперемежку с золотистого цвета коронками, прояснили мое воображение — значит еще человек.
Испоганенное его густыми соплями покрывало, кое-где еще белевшее холодом, стало медленно сползать на пол, обнажая скорчившийся труп отца. Я взмок, я дрожал от холодного пота, внутри меня бродила глушащая боль. Скорбь с новой силой объяла нас.
— Ого, го, го… э, э, э… разворот! — странно, пугающе нарушил вдруг гнетущую тишину приглашенный, грассируя «р» дребезжащим дискантом.
— Да, прошу извинить, запамятовал представиться: Магистр ветеринарных наук Арон Одесский, — и он низко поклонился со студенческой церемонностью. — Замечаю, вы очень встревожены чем-то, но, однако догадываюсь, по всей вероятности видом моим, да чем бы иначе? Да-с… Тут он замолчал, приподнял обеими руками почему-то неожиданно отвисший подбородок, кряхтя, отрыгнул, сплюнув под стол, где лежал труп, и продолжал.
— Время, господа, времечко… оно нынче правит бал. Вот уже который год несу на себе я непосильный груз истин, которые без сомнения вот-вот разворотят весь наш заскорузлый, упрямый мир. Моя наружность до недавнего времени видом была вполне респектабельной, но согласуясь с открытыми мною явлениями, облик мой стал соответствовать критерию неизбежного, И Магистр трижды перекрестился, приложившись при этом, губами к чемодану-гробу.
— Но оставим словесную пачкотню, к коим не сомневаюсь, вы мои рассуждения причисляете.
Он поскребся спиной о дверной косяк, и единственный открытый глаз его сверкнул лукавством.
— Вот вам неопровержимый факт, извольте: после повального помрачения умов в наших девяностых, модно стало красть мысли чужие, они вдруг взметнулись в цене до небес. А я ранее и тем более позже ими под завязку перегружен был. И чтобы сберечь собственность свою интеллектуальную от наглецов разного калибра, придумал я немыслимый, по разумению стандартных не шибко разумных людей, ход: собрал все свои драгоценные идеи в один клубок и внушил их, даже самые замысловатые, моему беспородному, но очень смышленому псу-Тарантасу — так его кличут.
«Какому-то псу внушить некие секреты? Что он несет, не сон ли это?» — ворочалось в моей голове. Я крепко тер виски, пытаясь хоть на миг уйти от нависшего над нами бреда. И тут произошло что-то невероятное. Лицо Магистра стало вдруг меняться еще к худшему и он, уже рыча по-собачьи, принял ее облик. Мы содрогнулись, и в который раз нас объял страх. Эта жуткая сцена длилась минуту, полторы, затем собачья морда опала, лицо Магистра вернулось к первоначальному уродству, и он перестал рычать.
— Но они — эти бездарности, — уже лающим голосом продолжал Магистр повесть о своей безрадостной доле, — добрались-таки окольными путями до моего кобеля, приведя ему красивую сучку. Тарантас и раскололся в любовной истоме, выложив подлецам, что хранил. Тогда-то и решил я навсегда порвать с сообществом потребителей и подался в поистине материальный мир, как видите.