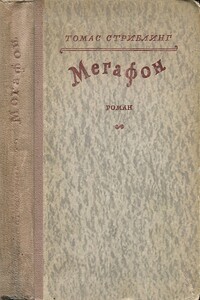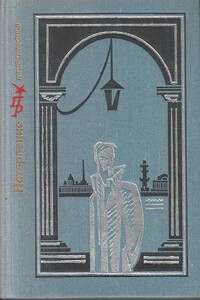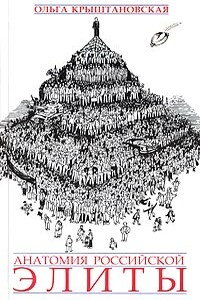Обгоняя пехоту, бортовушка ефрейтора Вани Изюмова первой из всей батареи проскочила околицей только что отбитого у фрицев городка. С ходу вынесла пушку на голый бугор. Выскочив из кабины потрепанного "УралЗиса", Изюмов восторженно закричал:
— К бо-о-ою!
Солдаты рисково — прямо с машины в сугроб — побросали ящики со снарядами, толкаясь, задирая полы промерзших, задубелых шинелей, посыпались через борта в сухой поскрипывающий снег. — Живее давай! Живе-е-ее! — командовал Ваня. Орудие вмиг отцепили. — В валун… В валун упирай! Гони! — махнул он рукой водителю тягача.
Машина завязла в снегу. Ревела.
— Ну, рр-а-азом! — сипло вырвалось из застывшей Ваниной глотки. Плоской, тощей спиной он первым, за ним полдюжины занемевших от стужи солдатских плеч поддали в борта. Машина рванулась, взметая сугробы, понеслась под уклон.
Не успел Изюмов вскинуть бинокль, а уж наводчик, такой же, как и он, молоденький, но покрупнее, покрепче — Олеська Сальчук, доложил:
— Первое готово!
«Да нельзя же… Взводный… Матушкин… Он же только по танкам велел… Только по танкам! Зря орудий не обнаруживать! — Сердце у Вани сжалось. Изможденное лицо его в крапинках ржавых веснушек еще пуще вытянулось и побелело. Он замешкался было. А внизу по снежной, багряной от рассветной зари целине драпали немцы, норовя укрыться в лесопосадке. — Уйдут же… Скорее! Уйдут!» И вдруг решившись, плюнув на все, Изюмов отчаянно взвизгнул:
— Осколочным!
«Может, зарыться?.. В снег хотя бы… Сеткой, что ли, хотя бы прикрыть? — мелькнуло. Но подносчик снарядов Семен Барабанер уже кинулся к ящику. — А, что будет — то будет», — сдался охваченный лихом Изюмов. — Живе-е-ей! — опять взвизгнул он. Семен заметно хромал — на пятке его наливался волдырь. Но Изюмов совсем голову потерял, не хотел, да и не мог ничего уже замечать.
— Ну, чего там? Поворачивайся! — с раздражением вырвалось у него.
Но Семен подхватил уж осколочный, ринулся к пушке, корчась от боли, воткнул его в ствол. — Выше — семь! — Ваня голову запрокинул, вздернул кулак. — Беглым! — Съехал на затылок треух, рыжеватая пакля волос свисала на лоб, на глаза. От стужи и возбуждения они влажно блестели. В эти мгновения и Ваня Изюмов, и Олеська Сальчук, и Семен Барабанер, да и все из первого расчета первого взвода истребительной батареи капитана Лебедя действовали так, будто двигал ими сейчас только яростный и лихой азарт. Господи, да и как он мог не пьянить этих ребят? Как? Пока только враг давил, только он теснил, а тут они колотили его, ему поддавали под зад: вышибли с предгорья, загнали в котел и теперь сжимали, сжимали кулак.
— Ого-о-онь! — рассек рукой воздух Ваня Изюмов. Пушка грохнула. Резво подпрыгнув, опустилась на место. Солдаты вновь зарядили ее.
— Огонь!.. Огонь! — командовал Ваня. И каждый раз, когда под бугром в гуще немецких солдат взметался клуб дыма, снега, глины и еще чего-то, Олеська Сальчук радостно вскидывал голову. На смуглом лице его под темным пушком белели свежим штакетником зубы, горели глаза. А замковой Марат Пашуков, рыжеватенький, светленький, также крапленый веснушками, как и ефрейтор Изюмов, но не щупленький, а ладненький и литой, при каждом удачном выстреле весело присвистывал. И все остальные будто не долг выполняли, не службу несли, а тешились, сатанея от этой, казалось, не дела — игры. И не сразу понял Изюмов, весь расчет не сразу понял, что вдруг стряслось: полетели какие-то черепки, в щеку Ване брызнуло теплое, липкое. Взмахнув руками, Олеська Сальчук, только собравшийся нажать на спусковой рычаг, рот раскрывший кричать, странно дернулся, обмяк и словно подкошенный повалился под орудийный замок. — Ложи-и-сь! — захолонув от ужаса, вскрикнул ефрейтор.
Марат Пашуков не успел укрыться за щит, охнув, тоже стал оседать.
Когда отхлынул первый испуг, Ваня, ошалело тараща глаза, рот разинув, оторвался от снега. Знал, что рискованно так, что смерть за щитом гуляет сейчас. Но иначе не мог: должен был взглянуть на упавших солдат.
У наводчика Сальчука, только сейчас оравшего белозубо, восторженно трясшего чубом, не было уже ничего — ни чуба, ни рта, ни зубов. Осталась от головы лишь дымящаяся кровавая чаша — безобразная, изодранная по краям…
Тошнота подступила к Ваниной глотке, склизкие брызги гадко опалили лицо. Морщась, он зачерпнул горстью снег, бросил на щеки, на лоб, на глаза, затер лицо рукавом.
На спине Пашукова дымилась дыра. Уже дымился, краснел под ним и сугроб. Падая, Пашуков подвернул руку, и она теперь торчала неестественно жутко: как, страдая от боли, не смог бы держать ее немертвый — живой.
И, позабыв об осторожности, Ваня вскочил, потянул замкового к себе. Нет, не живой. «У-у-у!.. Я… Я это все! — так и полоснуло безмерной виной ефрейтора Ваню Изюмова. — По танкам приказано было… Только по танкам!.. А я?.. Нарушил… Ох, не выполнил я приказа!
Хотя бы зарылся, замаскировался… На голом бугре…
Ох и дурак же я, ох и дурак!»
Немецкий снайпер спешил: следующая пуля, скользнув по орудийному металлу, не хлопнула, как положено было ей, разрывной, а, тоненько, сладко запев, унеслась, чудом оставив Ваню в живых.
Обычно в позиционной войне обнаружить "кукушку" непросто. Но эта была "проходной", сидела уже не в насиженном ею "гнезде", а там, видать, где удалось ей пристроиться. И два следующих выстрела выдали ее: