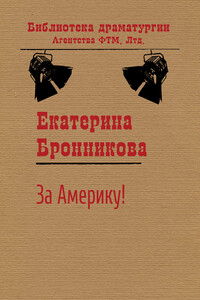— Ну что, будем и дальше играть в молчанку? — спросил Мирошников, доставая из початой коробки «Казбека» новую папиросу.
Рядовой Кирюхин хмуро глядел исподлобья и ни в чем сознаваться не собирался.
— Не знаю, чего вы от меня хотите, товарищ младший лейтенант.
«Не так, не так бы с ним надо, — подумал Мирошников. — А дать бы кулаком по столу, чтобы карандаш в щепы, да рявкнуть по-медвежьи, чтобы в портках замокрело — тогда бы спесь-то подрастерял. А может, и нет. Полтора года на фронте, из них год не передовой, медаль „За боевые заслуги“ — поди, кой-чего пострашней особотдела видал».
— Курить хочешь? — спросил он беззлобно.
— Не курю я, товарищ младший лейтенант, — устало напомнил Кирюхин.
— И правильно, — кивнул Мирошников. — Курево, говорят, жизнь укорачивает. А ты молодой, тебе бы жить и жить еще, верно? Кабы не эта бумажка.
Лейтенант продул бумажную гильзу, постучал ею по коробке, вытрясая остатки табачных крошек, старательно обмял папиросу гармошкой, и не торопясь, прикурил от «катюши»-коптилки.
— Это ведь я с тобой по-человечески, по-свойски говорю, понимаешь? — продолжил он. — Там… Там с тобой нянчиться не будут. Поэтому лучше, если ты мне, вот здесь, все и расскажешь.
— Я уже все вам рассказал, — ответил Кирюхин, — как в красноармейской книжке записано, так и есть, мне скрывать нечего. И товарищи соврать не дадут.
— Вот с товарищами-то у тебя и проблема, — перебил Мирошников, пустив сизую струю крепкого дыма в закопченный потолок блиндажа. — Вот что пишет, к примеру, рядовой пулеметной роты Кравченко, цитирую: «Вернувшись из госпиталя 12 сентября сего, 1942 года, встретил у полевой кухни своего старого товарища, рядового третьего взвода первой стрелковой роты Михаила Кирюхина, который совершенно меня не узнал, хотя до ранения мы с ним были очень дружны, поскольку призывались из одного села. Прошу на основании моих слов проверить этого товарища, который лицом есть вылитый мой земляк и боевой товарищ рядовой Кирюхин, а по существу совсем другой человек, и может статься, немецкий шпион-диверсант. С моих слов записано верно, число и подпись: рядовой Кравченко».
— Дурак этот Кравченко, — сказал Кирюхин. — Я после второй контузии много чего напрочь позабывал. Имена и лица до сих пор еще путаю, бывает.
— Бывает, что и вошь кашляет, — проворчал Мирошников, попыхивая папиросой, — но моя обязанность — проверить и доложить. Проверить я не могу: госпиталь попал под бомбежку, все бумаги сгорели, члены врачебной комиссии убиты или пропали без вести. А поскольку возиться мне с тобой здесь нет никакой возможности, я твое дело должен передать в Особый отдел ОГПУ дивизии. Понимаешь?
— Так точно.
Младший лейтенант затушил окурок о подошву, неторопливо выдул пыль из двух стаканов, снял с буржуйки котелок и нацедил чаю. Потом покопался в кармане и отыскал кусок сахару, облепленный табачными крошками и завернутый для сохранности в не первой свежести носовой платок. Мирошников расколол сахар ловким ударом ножа прямо на ладони, одну половинку закинул в рот, а вторую положил перед Кирюхиным.
— Пей, — сказал он. — В дивизии порядки другие, там не почаевничаешь. Как человек, я против тебя ничего не имею. Но как уполномоченный особотдела ОГПУ — ничего больше сделать не могу.
— Я понимаю, — хмуро сказал боец.
Он по-детски обхватил стакан двумя ладонями и принялся шумно швыркать из него кипяток. На вид Кирюхин казался совершенно спокойным. Это больше всего и смущало Мирошникова.
— Есть, правда, — сказал он, — маленький шанс уладить это дело по-тихому. Кто-нибудь в батальоне может за тебя поручиться? Кто тебя лучше знает?
— Особо никто, — сказал Кирюхин. — Пока в госпитале валялся, от моей роты почти никого не осталось. Вот, разве что, взводный…
«Ай да я!» — мысленно похвалил себя особист.
— Это лейтенант Стрельченко? — переспросил Мирошников. — Так он же, вроде, тоже из пополнения?
— Так точно, — кивнул Кирюхин. — Только я его еще по госпиталю знаю, вместе выписывались.
На улице хлопнула с треском осветительная ракета, и сквозь щели неплотно сколоченной двери блиндаж наискось пересекли лучи мертвенно-бледного света. Неподалеку коротко татакнул пулемет, с снова все стихло.
— Недобрая тишина, — сказал Мирошников.
— Значит, на рассвете полезут, товарищ младший лейтенант, — ответил Кирюхин.
— Может быть, может быть, — кивнул особист. — Только это уже без тебя. Как только вернется машина, сопроводим тебя в штаб дивизии. Ну что, допил, что ли?
Сквозь щелястую дверь блиндажа внезапно донеслось тарахтение мотора и скрипнули тормоза. Мирошников мельком взглянул на часы и даже приложил их к уху, чтобы проверить, не остановились ли они.
— Что-то рано, — заметил он.
— Это не наш «виллис», — пояснил Кирюхин, — слышите, как тарахтит? Это «эмка».
За дверью послышался голос часового, и следом глухой басовитый баритон приезжего. Кожаные петли скрипнули, и в блиндаж, согнувшись, втиснулся коренастый офицер с тремя шпалами НКВД в петлицах. Был он для капитана несколько староват, или седые виски делали его на вид старше своих лет. А может, в этом были виноваты глубоко посаженные цепкие глаза и короткие жесткие складки у сжатых губ.