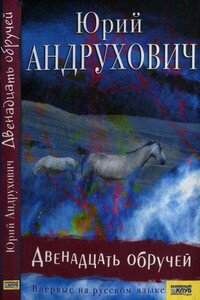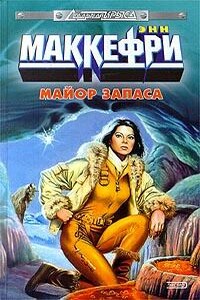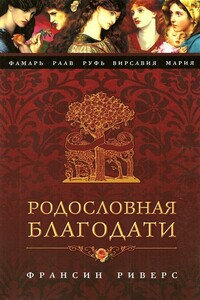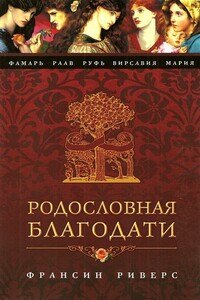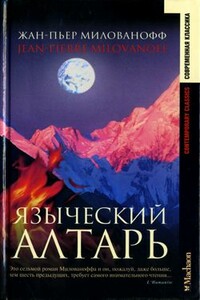Сегодня исполнилось ровно семь лет с тех пор, как я поклялся себе рассказать — по крайней мере отчасти — историю жизни Орелин Фульк, а значит, и свою собственную историю. Я очень хорошо запомнил место и обстоятельства этой клятвы, произнесенной в приступе ярости. Было сентябрьское утро, такое же, как сегодня. Поднявшись рано, я выпил семь или восемь чашек кофе, сел в машину и отправился в путь по дорогам департамента, запруженным тракторами, тянувшими прицепы с виноградными гроздьями. Несмотря на проливные дожди, сбор урожая в окрестностях Нима был в самом разгаре уже с начала недели. Протащившись довольно долго со скоростью черепахи, я наконец оставил виноградники позади и очутился в западной части дельты Роны, в краю, который называют Малый Камарг. А дождь без устали все чертил и чертил на горизонте серые штрихи.
Часом позже я оказался на главной аллее деревенского кладбища, окруженного высокими стенами из серого камня. Нас было мало, не больше десятка. И ни одной женщины, только мужчины. Я заметил, что двое стоявших впереди меня были одеты в одинаковые анораки с меховым отворотом, один в серо-зеленый, другой в темно-синий. Процессия медленно двинулась между рядами кипарисов. В тот момент, когда мы остановились перед склепом, решетка которого была открыта, дождь прекратился, и огромная скатерть неба, серая, как крыло чайки, распростерлась над крестами.
Затем мой брат Жозеф, наш семейный атлет, прочел свою пространную речь, над которой он трудился всю ночь. Расплывчатые и немного торжественные слова. Такую речь, наверное, мог бы произнести секретарь мэрии, открывая мемориальную доску в месте, где жила какая-нибудь знаменитость. Он напомнил присутствующим о стойкости и мужестве Орелин в последний год ее жизни, уверил всех в том, что ее пример не будет забыт и что память о ней навечно сохранится в сердцах грядущих поколений, и т. д. и т. п.
Я довольно покладистый человек и допускаю любые убеждения и безумства, лишь бы мне не навязывали их силой. Если бы Жозеф хладнокровно заявил, что почившая была языческим идолом, я бы и ухом не повел. Но его безликие и лживые славословия показались мне оскорблением. Как он мог так целомудренно говорить об Орелин? Почему он ничего не сказал о тех поцелуях, которые она с такой щедростью дарила всем нам? Он-то получил свою долю раньше меня, и то же самое можно было сказать обо всех мужчинах, стоявших полукругом возле гроба, за исключением разве что кюре, да и то еще неизвестно. Я был так раздосадован, что тут же поклялся собрать и рассказать все, что знаю об Орелин. Вот дело, которое я все откладывал со дня на день и за которое наконец взялся сегодня.
Может быть, желание любой ценой сдержать обещание, о котором никто, кроме тебя, не знает, не слишком разумно, но дело в том, что с течением времени я создал себе нечто вроде религии для внутреннего пользования. Ее достаточно трудно описать, потому что она состоит из богов, существующих только от случая к случаю. В ней нет ни алтарей, ни причастий, ни звонящих колоколов, ни адептов, ни муэдзинов. Полнее всего она проявляется, когда в сумерках или полной темноте я возвращаюсь домой, нетвердой походкой ступая по крутым улицам Нима. Тогда и женщина в высоких красных сапогах, стоящая перед старой облупившейся дверью, и цветы герани на балконе, и взгляд пекаря из булочной, и бродяга, стрельнувший у меня сигарету, и даже белая кошка, которую до этого никто здесь не видел, — иначе говоря, все что угодно может напомнить мне, что мир населен незримыми божествами. «Вот видишь, Максимчик, — говорю я себе в этот метафизический час, — боги не стесняются оставлять повсюду следы своего пребывания, и, прежде чем раствориться в бесконечности, они готовы подарить тебе мгновение, желание, впечатление или забытое воспоминание». Надо ли говорить, что за прошедшие тридцать лет Орелин Фульк много раз будет, сама того не зная, их верной посланницей.
Но прежде чем продолжить этот рассказ, правдивый до самых бредовых подробностей, за исключением нескольких имен, которые я изменил, считаю нужным кратко представиться. Тогда добросовестные читатели, взявшиеся за мою книгу с самого начала, что, впрочем, я и советую им сделать, смогут убедиться в том, что я человек искренний и совсем не такой уж экстравагантный, как это кажется на первый взгляд, и что мое единственное достоинство состоит в том, что, играя блюзы в баре, который я назову, ну, скажем, «Лесной уголок», я помогаю некоторым меланхоличным душам благополучно пересечь тревожную границу полуночи.
Мне пятьдесят пять лет. Мой рост — метр шестьдесят. Этим утром я потянул на сто два килограмма (а случается и больше). У меня круглое лицо, короткая и хорошо ухоженная бородка, лысый череп и слегка пронзительный голос. Я легко смущаюсь и краснею. В любое время года я ношу костюмы хорошего покроя, подобранную по цвету фетровую шляпу (у меня их штук двадцать), мягкие замшевые туфли на сплошной подошве и темные очки (вне зависимости от времени суток и при любом освещении). Есть одна деталь, которую сразу же замечают дети и очень редко взрослые: безымянный палец моей правой руки короче мизинца и не имеет ногтя. Чтобы сказать свое слово в истории музыкального образования в нашей стране, замечу, что ампутация одной фаланги повлекла за собой исключение из консерватории, и если бы не настойчивость моего отца, придумавшего особую аппликатуру, я бы распрощался с фортепиано, которое теперь дает мне средства к существованию.