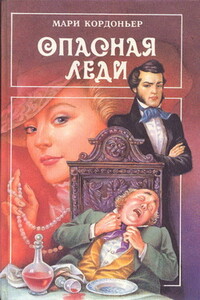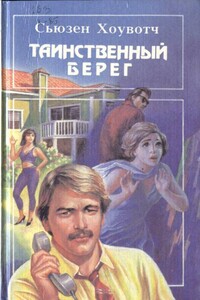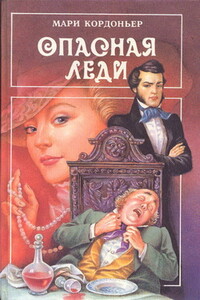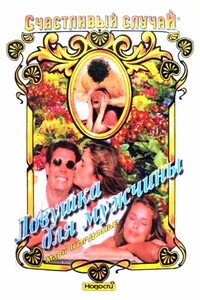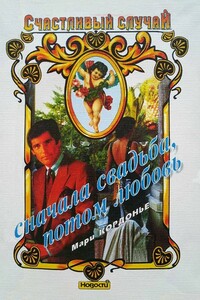Лондон
27 января 1821 года
Роланд Эпуорт внешне был само воплощенное спокойствие. Укутав свое массивное тело в домашний халат из рубиново-красного итальянского шелка, он сидел на своем любимом месте перед камином в салоне, вытянув перед собой крепкие ноги в темно-синих панталонах, и читал «Таймс». Время от времени он подливал из графина бренди в стакан, стоявший на столике рядом с ним. Если не считать редкого перелистывания газетных страниц, это было единственное движение, нарушавшее на короткое время невозмутимость застывшего изваяния.
И даже миссис Пикок, кухарка, которая всегда была готова идти за него в огонь и в воду, не могла понять этого почти вызывающего хладнокровия.
– Может ли мужчина, имеющий хоть чуточку сердца, бесстрастно читать парламентские новости, когда его бедная жена так мучается? – с жалобными нотками в голосе говорила она мистеру Стоунхоллу, дворецкому.
– А что, по вашему мнению, он должен делать, моя дорогая? – с обычным высокомерием отвечал он. – Напиться? Заламывать руки? Мешать акушерке? Вертеться под ногами у врача? Рожать детей – это ведь женское дело, так повелось со времен Евы.
– Вот уж действительно, столько мудрости я от вас не ожидала. – Миссис Пикок прямо-таки источала язвительную любезность.
Две девушки – прислуги по кухне, бывшие свидетелями этой случайной стычки, обменялись украдкой многозначительными взглядами.
Между кухаркой и дворецким велась постоянная борьба за абсолютное господство в доме Эпуортов. Сегодня чаша весов, по-видимому, склонялась в пользу рассерженной мастерицы кулинарного искусства, круглое красноватое лицо которой чуточку помрачнело. Возведя большой палец к небу, она сказала:
– Но я готова поспорить, что если бы рождением этих бедняжек-малышей занимались мужчины, то на свет появилось бы намного меньше детей, мистер Стоунхолл!
В то время, когда дворецкий искал подходящий ответ на это действительно неуважительное замечание, возникло ощущение беспокойства, шедшее из комнат наверху сюда, в полуподвал. Забыв о своем споре, кухарка и дворецкий обменялись озабоченными взглядами и одновременно повернулись в сторону двери.
И даже Роланд Эпуорт отложил в сторону газету, прервав созерцание ее передовой статьи, освещавшей положение промышленных рабочих в Шеффилде, которую он пытался читать уже в пятый раз, не понимая смысла.
С проворством, неожиданным для его массивной приземистой фигуры, он подошел к основанию лестницы, прежде чем доктор Джон Мейолл спустился на последнюю ступеньку. Врач выглядел устало, и, казалось, морщины на его лбу за последние часы углубились и их стало больше.
– Поздравляю, сэр! У вас чудесная, здоровая девочка! – Изнеможение в его голосе плохо сочеталось с радостной вестью.
Эпуорт понял все.
– А моя жена?
– Она зовет вас, сэр. Было бы лучше, если бы вы поспешили.
Роланд предчувствовал это, боялся этого. Все было напрасно. Всей его силы, его большой любви, даже денег, которых у него было предостаточно, не хватило, чтобы отвлечь Сюзанну от ее замысла. Доктор Мейолл его предупреждал. Ни ее здоровье, ни ее физическая конституция не обещали легких родов. То, что она настояла на своем и вообще решила произвести на свет этого ребенка, было огромной, роковой, смертельной ошибкой!
Хрупкая фигурка бледной до прозрачности молодой матери с трудом угадывалась под простынями между резными спинками огромной кровати. Нежный алебастровый тон ее кожи почти сливался с белым шелком подушек, и даже мягко очерченные губы были бескровны и бледны.
Огненно-рыжие блики на ее темных волосах, казалось, погасли, и лишь в ищущих светлых глазах, которые беспокойно перебегали с одного предмета на другой, еще теплилась жизнь. Остановившись на Роланде Эпуорте, они успокоились. Когда он медленно подошел ближе и упал на колени рядом с ее постелью, глубокий вздох приподнял впалую грудь умирающей.
– Мне очень жаль, Роланд, что… это… это не сын, о котором ты тайно мечтал… – выдохнула она угасающим голосом. – Я так желала доставить тебе хотя бы эту радость…
Она с трудом подняла руку и коснулась холодными пальцами угловатого лица мужчины, на котором особенно выделялся крупный нос, выдававшийся вперед, как эркер, из-под широкого лба с редкими волосами над ним. Жесткое лицо. Но иногда оно становилось даже привлекательным, как сейчас, когда его серые мрачные глаза были наполнены любовью пополам с отчаянием и глубокой тревогой.
– Все, чего я хотел бы от жизни, – это тебя…
Эти сказанные хриплым голосом слова каким-то чудом вызвали отсвет далекой улыбки в уголках дрожащих губ Сюзанны.
– Я этого не заслужила… Прости меня, Роланд!
А затем так громко, что он вздрогнул:
– Руперт! О Руперт!
По холодным как лед пальцам, которые он, оберегая, держал в своих руках, прошла легкая дрожь, затем они обмякли. Веки женщины опустились. Сюзанна Эпуорт не пережила родов.
И в этот самый момент, как бы почувствовав потерю, маленькое, только что родившееся существо горько заплакало. Незнакомый резкий звук проник через опустившееся на молодого отца удушающее облако тумана из ненависти и горя.
Осторожно, словно она была из венецианского хрусталя, положил он правую руку умершей поверх левой и поднял их ей на грудь. Затем обернулся и всмотрелся в туго перевязанный сверток, который, как бы в утешение, протягивала ему акушерка.