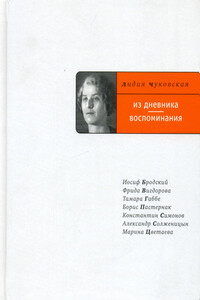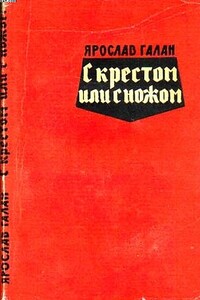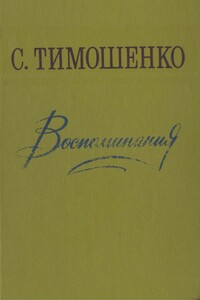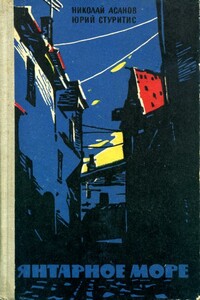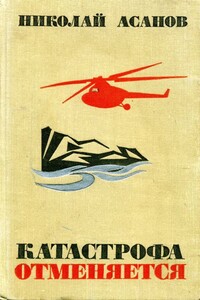Глава первая. Главное условие боя…
1
«16 февраля наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом…»
Совинформбюро. 16 февраля 1943 г.
В середине февраля майора Толубеева внезапно вызвали на госпитальную комиссию… Все эти дни раненые жили взволнованно-приподнято. Врачи с изумлением наблюдали, как, казалось бы, безнадежные пациенты вдруг начинали поправляться, интересоваться событиями в мире и на фронтах. Лежачие больные требовали костыли и сызнова учились ходить. А еще вчера считавшиеся «трудными» сегодня просились на выписку.
Но госпитальные врачи знали, что эти чудеса зависят совсем не от медицины, не от лекарств.
Это было всеобщее чудо возрождения, охватившее всю страну.
Всего лишь две недели назад, первого февраля, было опубликовано сразу ставшее достоянием истории знаменитое сообщение Совинформбюро, начинавшееся словами: «НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА».
Хотя последние месяцы Совинформбюро ввело новую рубрику «В последний час» и часто передавало радостные сообщения о победах на том или другом фронте, но нужно чувствовать себя солдатом, чтобы полностью представить себе масштабы этой победы под Сталинградом. И со второго февраля количество «чудесных» исцелений в госпитале все увеличивалось, возле репродукторов шла непрерывная дискуссия на тему: а какой фронт будет назван сегодня? — местные стратеги определяли по им только ведомым признакам участки, где начнется новое наступление, и все это естественно способствовало бодрости духа, которую даже скептики-врачи начали принимать во внимание, определяя ту или иную методу для лечения раненых.
Новые раненые в этот госпиталь не поступали: в нем долечивались те, кто получил тяжкие ранения еще в сорок втором году, в дни ожесточенных оборонительных боев во время серии фашистских ударов по Ленинграду, а затем при неудавшейся попытке прорвать блокадное кольцо под Синявино, в затяжных боях под Демянском, под Волховом. Этим бойцам, сражения которых не принесли видимой удачи, наверно, больше, чем кому бы то ни было, нужно было узнать, что их подвиги и даже страдания помогли другим бойцам выковать подлинную победу…
Майор Толубеев не хуже других понимал, что действия его батальона легких танков в те дни, даже и не принесшие настоящего успеха, все равно бросили свою долю на чашу весов, которая сейчас окончательно перевешивала всю могучую мощь фашистских армий. Но сам-то он был очень еще плох, чтобы надеяться на скорое возвращение к своим солдатам.
Вот почему вызов на госпитальную комиссию для него оказался неожиданным.
Пулевая рана в живот совсем еще недавно считалась смертельной. И Толубееву казалось, что ему необыкновенно повезло: его выходили, почти уже вылечили, только три последовательные операции чрезмерно истомили его. На комиссию он шел с полным пониманием того, что ничего утешительного врачи ему не скажут…
Комиссия, к удивлению майора, оказалась весьма представительной: присутствовали несколько госпитальных врачей, два каких-то крупных медицинских начальника и еще некий молчаливый остроглазый полковник, чрезвычайно пристально разглядывавший Толубеева.
Но сначала Толубеев не обратил внимания на этого человека. Его поразила новая форма офицеров: погоны, еще не обношенные, лежавшие дощечками на плечах, серебряные у медиков, золотые у военкома и остроглазого полковника. До сих пор Толубеев, как и другие ходячие больные, видел солдат и офицеров в погонах только через окно госпиталя, когда они проходили по улицам, еще и сами не узнавая себя, порой косясь на эти новые знаки различия на собственных плечах и необыкновенно пристально разглядывая их на плечах встречных военных. Погоны были только что введены и как-то необычно изменили вид любого воина…
Остроглазый полковник был поначалу интересен Толубееву только своими красивыми погонами с крупными серебряными звездами. Но тут майор уловил настороженный, изучающий взгляд полковника, и ему вдруг показалась, что он уже где-то видел это узкое, с высокими надбровьями, лицо, эти светлые прищуренные глаза, которые словно бы изучали его или, во всяком случае, запоминали, как запоминают чужой облик глаза художника, собирающегося писать портрет, а пока что исследующего натуру.
И внезапно Толубеев вспомнил: месяц назад, во время последней операции, когда он уже засыпал под наркозом, едва сопротивляясь слабости и тошноте, он услышал быстрые шаги, — они отдавались в усталом мозгу подобно барабанному грохоту, — и кто-то подошел к операционному столу, встал в ногах у Толубеева, пристально вглядываясь, спросил горячим быстрым шепотом:
— Ну, как?
— Надеемся! — сухо ответил госпитальный хирург, голос которого Толубеев узнал сквозь начинающееся забытье.
— Имейте в виду, он нам очень нужен! — решительно произнес неизвестный и словно бы растаял: это уже начинался глубокий обморок от наркоза.
«Хотел бы я услышать твой голосишко, — неприязненно подумал Толубеев. — Если это был ты, когда я на смертном одре лежал, — я бы тебя спросил: „А по какому праву ты мне умереть не позволял?“»