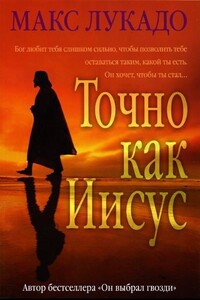АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ
ОДНАЖДЫ В РОССИИ
Роман
— Эх, Вовка, чует мое сердце, русского человека снова за бороду схватили и начинают трясти.
— Слава богу.
— Чему радуешься, голова садовая?
— Тому радуюсь, что я не русский, — мордва.
— Мордва что ни на есть русский. Тебе в калужской деревне плохо было? И на асфальте галоши не промочил.
— Ты, Михалыч, подначку не сечёшь. Пить надо меньше.
— У меня с этим строго. Электрикам вполпьяна нельзя, с огнем играем.
— И напряжение не вырубаете?
— Окстись! Первым делом! А все равно щёкотно. Жизнь, она знаешь... Такое шаманит, что с лихвой. Иллюминация, она проще.
— А чего тебя на иллюминацию ставят?
— Повелось так. Праздники подходят, начальник шумит: где иллюминатор?
— Михалыч, сколько же лет мы с тобой празднуем?
— Давно... А как тебя в Калугу забросило?
— Дед на базаре бабку приглядел и увязался за ней, под Ферзиково. Я по матери русский.
— Да-а, в ту пору людей, как семя, раскидывало. Где укоренятся, там и росли.
— У нас после войны так сеяли. Бабы вторую юбку наденут, им в подол зерна сыпанут и — на пашню... Да, Михалыч, здесь я только к цифрам могу люльку подать. Что в проверочном листе? На буквах все горит? Приставную лестницу из кузова вытаскивать — до мозолей мучаюсь.
— А ты в тряпочку помочись да ладони обмотай. Мозоль размякнет.
— Втридешево байку продаешь.
— Случай прижмет, вспомнишь.
— Когда пробную иллюминацию включат?
— В семь... Здесь немецкие, не перегорают.
— А чего ты их немецкими зовешь?
— На ящиках «Майли Сай. Ламповый завод». Туда поволжских немцев выселяли. Они лампочки и дуют. Киргизия... Ладно, давай о деле, подъезжаем. Штангу на два колена выдвинь. Когда уж твою лайбу спишут?
— Этому газону четверть века, вышка телескопическая. Остальные у нас поворотные, со стороны достают. У меня вертикально.
— Сейчас шесть... С последней цифрой мигом управлюсь, тридцать лампочек. Ждать придется, пока свет дадут.
Но ждали недолго. Вышку только уложили в кузов, как ярко, глазасто вспыхнула иллюминация: «С Новым, 1987 годом!».
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
До чего верно сказано: первая любовь уходит последней.
Никанорыч сидел в потертом кожаном кресле-качалке перед электрическим камином с пляшущими язычками светового пламени и вспоминал юность. Через несколько часов наступит 1987 год и ему стукнет девяносто. Наступает вечерняя заря, и память уносила в те далекие времена, когда занималась заря утренняя. Он встретил Надю Ткачук случайно, на одной из тесных улочек Брест-Литовска и долго крался за ней, чтобы на следующий день встать на дежурство около ее дома. Она жила на самой окраине, у небольшого леска, а за домом было просторное гумно. Примерно через месяц, основательно намозолив Наде глаза и подыскав повод для знакомства, там, на скирдах еще не обмолоченного хлеба, он в первый раз и женился.
Когда Надя провожала его до перекрестка, внезапно путь преградила подгулявшая компашка местных ребят. Один из парней, чернявый, с чубом, в лихо заломленной кепке, — до сих пор, паразит, стоит перед глазами! — грозно надвинулся: «Я лавочку открыл, а ты в ней торгуешь?»
Никанорыч непроизвольно улыбнулся, покачался в кресле: до чего же образным был тогдашний молодежный жаргон! А тот чернявый... Потом Надя со слезами рассказала, как он изнасиловал ее в соседнем лесочке.
Да-а, Надя Ткачук — его первая незабвенная любовь. В затрапезном Брест-Литовске с его лютыми, монументальными, как на подбор краснолицыми и рыжебородыми жандармами, со множеством евреев, гуртом живших своим местечковым бытом, с церковью и костелом, с мечетью и синагогой Надя олицетворяла для него высшую степень особой, не провинциальной красоты. У любви свои понятия.
Но тут началась Первая мировая. Улица утонула в патриотических манифестациях: мастеровые со знаменами, попы с хоругвями, рясы, ризы, шумные ватаги ушлых приказчиков из зеленных и прочих лавок. Слегка распивая винца и громко распевая песни, они набрасывались на замелькавших повсюду офицеров, с неразборчивыми криками качали их, подбрасывая вверх. Никанорыч снова улыбнулся. Он вспомнил, как на его глазах молоденький офицер в безукоризненно свежей, еще не маранной полевой форме, очухавшись от восторженных приветствий, вдруг отчаянно завопил: «Караул! Облупили! Кошелек!»
Вместе с новым фоном жизни повсюду и во множестве пооткрывались тыловые вертепы.
А Надя уехала в Минск.
Вскоре в поисках заработка снялся с насиженного места и он. В Свержене ему удалось устроиться рабочим на лесной скипидарный заводик — варил сосновые ветви, иногда ничком ложась на край костровой ямы и вдыхая целебный дух. Потом нашел дело зарплатнее — на лесопилке в Столбцах. Через три месяца лесопилка сгорела, и он снова пустился в странствия — Слуцк, Вильно, пока не надумал податься в Минск, искать Надю. Работу нашел запросто, но и попусту: подоспел призывной возраст, и пришлось возвращаться в Слуцк, где его успели приписать к воинскому присутствию.
Никанорыч, закрыв глаза, раскачивался в кресле, и перед его мысленным взором, словно в ускоренном кино, мчалось былое. В младые годы он летел по жизни, не замечая неустроенности, голода, недосыпа, жадно познавая мир. Авось, небось да как-нибудь! Обид тоже не замечал. Спустя полвека встретил одноклассника из брест-литовской приходской школы Митьку Ступицына, и тот со смехом напомнил, как весь класс дрожал от страха, когда учитель словесности порол Никанорыча — в ту пору Серегу Крыльцова — за непослушание. А сам-то он, в утробе тех дней, даже не помнил, что его наказывали в школьные годы. Это врожденное беспамятство на обиды, наверное, и стало залогом долголетия: не тратил попусту богоданный заряд души. Да и вообще... Люди, они разные. Первый знает, чего он хочет, а для второго главное — вызнать, чего хотят другие. Никанорыч был из первых, вот в чем дело.