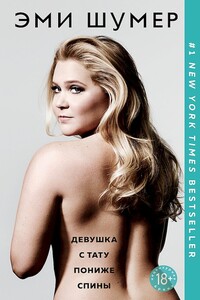Очень хорошо устроилась Алевтина: в Педагогическом институте служила вахтёршей на полставки. Из трёх ночей одну отсиживала, с восьми вечера до восьми утра, в пустом вестибюле, часто и поспать можно было. Платили всего тридцать рублей в месяц, но зато в паспорте, честь-честью, стоял штамп: принята на работу. Педагогический институт — и была она законная трудящая.
А уж всё остальное время было её, не отнимешь! Ну, и кроме того, очень удачно нашла Алевтина в Москве: раз в три дня подменяла московскую лифтёршу тётю Пашу. Тётипашина невестка была продавщицей в ГУМ’е, и от неё Паша всегда знала, когда в ГУМ’е выбросят импортное дамское бельё. Это бельё Паша развозила на квартиры ещё двум надёжным женщинам, и с ними вместе потом продавала это добро в вокзальных туалетах приезжим женщинам из разных городов. На это Паше надо было время, и пока она торговала, Алевтина подменяла её в лифте.
Алевтину не надо было учить жизни. Она не брала с Паши денег за работу в лифте. Зато Паша позволяла Алевтине пользоваться кабинкой, пристроенной под лестницей для лифтёрши. Эта кабинка большую службу сослуживала Алевтине.
Сегодня как раз был день — ехать в Москву, поработать в лифте, а вечером делать уже свои дела.
Встала Алевтина затемно, чтобы поспеть на первую электричку. Девчонки ещё спали, им ещё долго до школы. Когда проснутся, сами порыщут чего поесть, и уйдут в школу, зная, что матери не будет допоздна.
Комната была у Алевтины очень хорошая. Досталась ей, ещё когда она работала на вагонзаводе. Было ей тогда 17 лет, зубы белые сверкали, а на её грудь постоянно глазели мужики всех возрастов. Однако когда парни из её цеха пробовали облапить её, Алевтина сходу хрякала кулаком в нос, в рот, в глаза, — а силёнок Бог дал ей как иному мужику, так что парни быстро остывали.
Потом кто-то стал писать на стенах “Алевтина — курва”, или рисовали какую-то фигуру враскоряку, на ней верхом мужик, со всеми мужскими причиндалами наружу, а на фигуре слово “Алевтинка” или её фамилия “Понарёва”. Парни мстили за недоступность. Алевтина стирала надписи, а парни рисовали опять. Хотела уже Алевтина уволиться, но вмешался парторг ЦК на заводе, Фёдор Иванович. Было ему хорошо за пятьдесят, но был он ещё ладный мужик, хоть не было у него левого глаза. Не то на фронте потерял, не то муж какой-то бабёнки выбил из ревности. Глаз у него был серый, на обветренном квадратном лице.
Фёдор Иванович быстро управился с парнями. Одного застукали, когда он писал на стене возле уборной слово из трёх букв. Скорее всего, он вовсе и не писал про Алевтину, но всё свалили на него, выгнали с завода с плохой характеристикой, чуть было не отдали под суд за хулиганство. С тех пор надписей про Алевтину больше не было. Но иногда, идя по цеху, Алевтина слышала как кто-то шипел: “Вон она, парторгова подстилка идёт”.
Фёдор Иванович научил Алевтину всяческим штукам, так что после него её уже нельзя было ничем удивить. А потом всё тот же всесильный парторг устроил ей аборт, якобы по медицинским показаниям. А чтоб в общежитии никто не узнал об аборте, Фёдор устроил ей отдельную комнату, вот эту самую, где она и девчонки живут сейчас. Вот уже двадцать лет, как дали ей эту комнату. Комната отличная, почти 14 квадратных метров, и вход отдельный, прямо со двора. Правда, в кухню, общую на шестнадцать семей, надо ходить через двор. Но Алевтина устроилась и здесь удачно: всё готовила здесь же, в комнате, на электроплитке. Монтёр Колычев поколдовал со счётчиком, так что нагорало не больше двух рублей в месяц, сколько бы ни жечь плитку. За это Алевтина ходила к Колычеву раз в две недели, когда колычевская старуха была на смене. Но Колычев держал её какие-то полчаса, так что со счётчиком Алевтина устроилась почти задаром.
Прежде, чем выйти, Алевтина глянула на небо: не будет ли снегопада. Если будет — не стоит и ехать в Москву. За окном был всё тот же знакомый двор, заваленный грудами песка и цемента. Здесь, прямо в их дворе, строили кукольный театр. Когда театр будет готов, их дом будут сносить, чтобы вокруг театра была площадь. Тогда должны будут дать Алевтине, как матери одиночке, новую квартиру. Театр начали строить шесть лет назад. Навезли досок и кирпичей, вырыли ямы. Потом рабочих перебросили на более срочную стройку — новой тюрьмы. Строительство во дворе остановилось. За пять лет доски все исчезли, как и половина кирпичей. Зато на пустыре напротив повырастали дощатые и кирпичные сарайчики, на каждом — амбарный замок. В двух или трёх из этих халабуд стоят мотоциклы, в остальных так, всякие шмутки сложены. А два сарайчика побольше и получше остальных, и в них живут кабанчики, принадлежащие, в одном сарае — зав детским садом, а в другом — буфетчице из соседней блинной. Кабанчики растут очень успешно, и нач. Районного отделения милиции часто прохаживается возле них, посматривая, как они там растут. В середине двора осталась яма для будущего фундамента. На краю ямы врыт в землю столб, и на столбе большой щит с остатками надписи: “Дадим детям нашего города кукольный театр к годовщине Великого Октября”. Щит весь во вмятинах: мальчишки используют его как мишень.